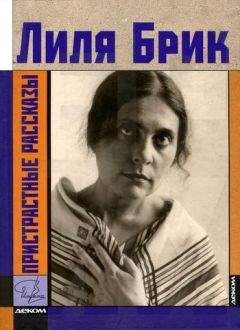Переводчик оказался влиятельным человеком, а, дорвавшись до русского языка, я, разумеется, понравился переводчику.
Короче: меня впустили в страну на 6 месяцев как туриста под залог в 500 долларов.
Уже через полчаса вся русская колония сбежалась смотреть меня, вперебой поражая гостеприимством.
Из отчета газеты «Фрайгайт» (Нью-Йорк):
Маяковский заявил:
– Я – только первый «мизинец» своей страны. Америка отделена от России 9000 миль и огромным океаном. Океан можно переплыть за 5 дней. Но то море лжи и клеветы, которое вырыли белогвардейцы, в короткий срок преодолеть нельзя. Нужно работать много и упорно, чтобы могучая рука новой России могла пожать без помех могучую руку новой Америки.
Давид Давидович Бурлюк:
Маяковский не любил сниматься и никогда не давал на это разрешения. Но однажды, стоя на Бруклинском мосту, со светящимися башнями подле, он позволил себя снять, надписав на фото: «Маяковский и Бруклинский мост – из родственных чувств к нему».
Элизабет Джонс. Из бесед с Патрицией Дж. Томпсон:
Он был действительно в настоящем восторге от Бруклинского моста. Мне было знакомо это чувство по московским инженерам и студентам инженерного института. Один американский журналист, которого я познакомила с ними, сказал: «Боже мой, да они знают каждый болт в Бруклинском мосту». Это действительно было достижением того времени. И Маяковский ходил по нему, была лунная ночь. Это было здорово. Он был так счастлив погулять по Бруклинскому мосту!
Владимир Владимирович Маяковский. Из беседы с журналистом нью-йоркской газеты «Фрайгайт»:
– Вот мы – «отсталый», «варварский» народ. Мы только начинаем. Каждый новый трактор для нас – целое событие. Еще одна молотилка – очень важная вещь. Что касается вновь открытой электростанции – то это уже совсем замечательное дело. За всем этим мы пока еще приезжаем сюда. И все же – здесь скучно, а у нас – весело, здесь все пахнет тленом, умирает, гниет, а у нас вовсю бурлит жизнь, у нас будущее.
До чего тут только не додумались?! До искусственной грозы. Тем не менее прислушайтесь, и вы услышите мертвую тишину. Столько электричества, такая масса энергии и света, что даже солнце не может с ним конкурировать, – и все же темно. Такая огромная страна, с тысячами всевозможнейших газет и журналов – и такое удивительное косноязычие, никакого тебе красноречия. Рокфеллеры, Морганы, Форды – вся Европа у них в долгу, тресты над трестами – и такая бедность.
Вот я иду с вами по одной из богатейших улиц мира, с небоскребами, дворцами, отелями, магазинами и толпами людей, и мне кажется, что я брожу по развалинам, меня гнетет тоска. Почему я не чувствую этого в Москве, где мостовые действительно разрушены и до сих пор еще не починены, многие дома сломаны, а трамваи переполнены и изношены донельзя? Ответ простой: потому что там бурлит жизнь, кипит, переливается через край энергия всего освобожденного народа – коллектива; каждый новый камень, каждый новый кирпич на стройке есть результат целеустремленной, творческой инициативы самих масс.
А здесь? Здесь нет энергии, одна сутолока бесформенной, сбитой с толку толпы одураченных людей, которую кто-то гонит, как стадо, то в подземку, то из подземки, то в «эл», то с «эл».
Все грандиозно, головокружительно, вся жизнь – «Луна-парк». Карусели, аэроплан, привязанный зачем-то железной цепью к столбу, любовная аллея, которая вот-вот должна привести в рай, бассейн, мгновенно наполняемый водой при помощи пожарной кишки, – все это грандиозно, головокружительно, но все это только для того, чтобы еще больше заморочить людям голову, выпотрошить их карман, лишить их инициативы, не дать им возможности думать, размышлять. Так и дома, и на фабрике, и в местах для развлечений. Радость отмерена аршином, печаль отмерена аршином. Даже деторождение – профессия… И это свобода? <…>
Предвечерний шум на Пятой авеню разбудил в Маяковском потребность вернуться к разговору, происходившему два дня назад. Он беспрерывно курит свои длинные русские папиросы, ходит из угла в угол, наконец останавливается и бурчит:
– Поди возись тут с индивидуумом. Это пока не стоит труда. Какое значение он имеет по сравнению с миллионами? Он ничего не может поделать, абсолютно ничего. Америка лишний раз убедила меня в этом и все больше и больше убеждает. Ах, черт возьми! Такая гигантская техника, настоящая мистерия индустриализма, и такая духовная отсталость, просто дрожь берет. Эх, да ведь если бы наши русские рабочие и крестьяне достигли хоть одной трети такой индустриализации, какие чудеса они бы показали. Они бы не одну новую Америку открыли.
Василий Абгарович Катанян:
Но, несмотря на весь интерес к путешествиям, к новым странам и людям, – несмотря на то, что организовать такое путешествие стоило ему подчас больших трудов, возни и беготни: добыть визы, паспорта, деньги и т. д., Маяковский, едва начав поездку, едва переехав советскую границу, начинал уже скучать по Москве, тосковать и рваться назад.
Эльза Триоле:
И с кем бы Маяковский ни говорил, он всегда и всех уговаривал ехать в Россию, он всегда хотел увезти все и вся с собой, в Россию. Звать в Россию было у Володи чем-то вроде навязчивой идеи. Стихи «Разговорчики с Эйфелевой башней» были написаны им еще в 1923 году, после его первой поездки в Париж:
Василий Васильевич Катанян:
Сохранилась записная книжка поэта, с которой он ездил в Берлин и Париж. Лиля Юрьевна еще в Москве записала поручения, которые обычно пишут жены мужьям, когда те едут за границу. И среди инструкций – какого цвета должны быть туфли и какого фасона костюм – обращают внимание записи: «Машина лучше закрытая. Со всеми запасными частями». «Сзади чемодан. Не забудь авто-перчатки».
История этого «Рено» такова: в 1927 году Лев Кулешов, знаменитый тогда кинорежиссер, приехал на дачу в Пушкино, где жили Маяковский и Брики. Приехал он на новом «Форде», это был чуть ли не единственный «Форд» в Москве, и все с интересом рассматривали машину. Вечером с ним на «Форде» возвратились в город Маяковский и Лиля.
С этого и началось. Маяковский очень хвалил автомобиль, он вообще восторгался техникой, видя в ней залог будущего прогресса, хотя сам в ней понимал мало и управляться с нею не умел. Ему импонировали механические новинки XX века, и в одном стихотворении он предсказал, что «вечное перо», пишущая машинка и автомобиль станут рабочими инструментами писателя. <…> Он говорил, что «Пастернак любит молнию в небе, а я в электрическом утюге», образно, конечно, ибо никакая молния в утюге не сверкала – и с того дня идея автомобиля запала, и особенно она запала в душу Лили Юрьевны.