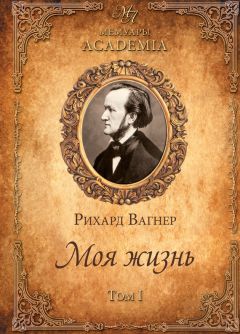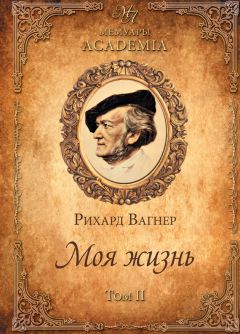На моем горизонте стали наконец собираться грозные тучи. Манкирование школьными обязанностями достигло такой степени, что это неизбежно должно было повести к полному разрыву с гимназией. Матушка ничего об этом не знала, а я не столько боялся, сколько сам искал катастрофы. Желая встретить эту катастрофу с достоинством, я решил заблаговременно поразить родных и познакомить их с моей уже законченной трагедией. Это великое творение должен был представить им дядя. В его сердечном сочувствии и в том, что он признает во мне большое поэтическое дарование, я не сомневался: удивительное совпадение наших воззрений на важнейшие стороны жизни, на науку и искусство было, казалось мне, в том порукой. Я отослал ему объемистую рукопись при подробном письме, в котором изложил мои отношения к гимназии Святого Николая и твердое решение не позволять впредь никакому школьному педантизму стеснять мое свободное развитие. Я был убежден, что очень его обрадую всем этим.
Случилось, однако, иначе. Письмо мое очень испугало его. Чувствуя за собой большую вину, он отправился к матушке и к моему зятю [Фридриху Брокгаузу], чтобы известить их о несчастье, обрушившемся на семью, и объясниться по этому поводу, так как опасался, что его влияние на меня истолкуют в дурную сторону. Мне он написал серьезное письмо, в котором отклонял дальнейшее наше общение. До сих пор не могу понять, почему он не сумел юмористически отнестись к моему заблуждению. К удивлению, он только упрекал себя в том, что неразумным ко мне отношением способствовал выработке нелепых взглядов, вместо того чтобы спокойно объяснить мне сущность моего заблуждения.
Суть преступления пятнадцатилетнего юноши заключалась, как сказано, в большой трагедии: «Лойбальд и Аделаида» [Leubald und Adelaide[85]].
Рукопись драмы, к сожалению, не сохранилась у меня, но и сейчас я как бы вижу ее перед собой. Почерк у меня был в высшей степени аффектированный: косо поставленные, изогнутые назад длинные буквы, которыми я думал придать всей рукописи оригинальный характер, уже раньше напомнили одному из моих учителей персидские клиновидные письмена. Драма была целиком написана под влиянием Шекспира, главным образом его «Гамлета», «Макбета», «Лира», и гётевского «Гёца фон Берлихингена»[86].
Сюжет представлял собою, собственно, вариант «Гамлета»: разница заключалась в том, что мой герой, потрясенный появлением тени отца, убитого при очень сходных с «Гамлетом» условиях, и его призывом к мести, впадает в такое неистовство, что через целый ряд убийств доходит до сумасшествия. Лойбальд, представлявший собой как бы сочетание Гамлета и Перси Горячей Шпоры[87], дает духу отца обет истребить совершенно с лица земли весь род Родериха (так звали нечестивого убийцу благородного отца). В жестокой схватке он убивает Родериха, его сыновей и всех верных ему родных, и ему остается теперь только исполнить свое самое горячее желание: убить себя, чтобы соединиться с тенью отца. Но этому мешает следующее: еще осталось на земле одно дитя Родериха. Во время штурма замка дочь Родериха спасает и увозит один преданный, но ненавидимый ею поклонник. Этой девушке я в порыве восторга дал имя Аделаида. Уже в то время я увлекался всем старогерманским, и это совершенно ненемецкое имя моей героини я могу объяснить себе только тем энтузиазмом, который внушала мне «Аделаида»[88] Бетховена. Ее мечтательный рефрен казался мне тогда символом любовного призыва.
В дальнейшем ходе драмы эта последняя необходимая искупительная смерть странным образом все отодвигается. Главным препятствием здесь является быстро возникающая страстная любовь между Лойбальдом и Аделаидой. Мне удалось самое возникновение этой любви и объяснение между влюбленными провести в условиях совершенно необыкновенных. Аделаиду похищает у укрывающего ее жениха другой рыцарь. Истребив жениха со всем его родом, Лойбальд устремляется к разбойничьему замку уже не столько из кровожадности, сколько ища смерти. Он жалеет поэтому, что не может немедленно атаковать замок, так как он хорошо защищен и наступающая тьма этому мешает. Ему приходится разбить на ночь палатку. В первый раз его ярость сменяется усталостью, и в то время, когда дух отца, по образцу «Гамлета», опять требует от него исполнения обета, враг внезапно под покровом ночи нападает на него, и он сам оказывается в его власти. Там, в подземной тюрьме замка, он встречает дочь своего врага: она тоже в неволе, но хитростью освобождается из плена и является ему в условиях, при которых производит на него впечатление небесного видения. Они любят друг друга, бегут оба в пустыню и здесь узнают, что судьба предназначила им быть смертельными врагами.
Уже раньше заметные в Лойбальде признаки помешательства после этого открытия усиливаются. Этому помогает дух отца, беспрестанно становящийся между влюбленными при всех их попытках к сближению. Но не один этот дух мешает примиряющей любви между Лойбальдом и Аделаидой – появляется еще дух Родериха и к нему, по методе Шекспира в «Ричарде III», присоединяются духи остальных убитых Лойбальдом членов семьи его возлюбленной. От беспрерывной навязчивости этих духов Лойбальд пытается освободиться колдовством при помощи одного беспутного негодяя по имени Фламминг, к нему приставшего. Одна из ведьм Макбета должна прогнать духов: так как она не может добросовестно выполнить эту задачу, Лойбальд в ярости кончает и с нею, она же, умирая, напускает на него все полчище служащих ей темных сил в дополнение к тем, которые сами к нему липнут. Изнемогая от нестерпимых мучений, Лойбальд в припадке крайнего умоисступления обрушивается на свою возлюбленную как на причину всех зол. Он в бешенстве закалывает ее и затем внезапно успокаивается: голова его падает к ней на колени, она дарит ему свои последние ласки, кровь ее льется струей на него, и он умирает[89].
Конечно, я использовал все, что было в моем распоряжении, начиная с известных мне рассказов о похождениях рыцарей и кончая «Лиром» и «Макбетом», чтобы насытить драму душещипательными ситуациями. Главным же украшением моего творения был его язык, заимствованный у Шекспира из его богатейшего патетического и юмористического словаря. Смелость высокопарного и нарочито выспренного слога повергла дядю Адольфа в испуг и изумление. Он не мог понять, как я ухитрился не только извлечь и пустить в ход одни только самые вычурные выражения из «Лира» и «Гёца фон Берлихингена», но еще и преувеличить их. Порицания по поводу нелепо потерянного времени, из-за того, что я сбился с пути, – все это положительно оглушило меня. Но при этом в глубине души я утешал себя одним: я знал то, чего еще никто знать не мог, а именно – что мое творение можно было бы правильно оценить лишь в том случае, если бы оно было снабжено музыкой. Я решил эту музыку написать и, не откладывая, заняться этим в ближайшем будущем.
Здесь я хочу рассказать, как сложились мои отношения к музыке, и дол-жен начать с самого начала.
15
В нашей семье две сестры занимались музыкой: старшая, Розалия, играла на фортепьяно, без особенного, впрочем, успеха; Клара, напротив, была гораздо способнее. При большом музыкальном чувстве и красивом теплом тоне в игре на фортепьяно у нее был такой прекрасный, полный душевной выразительности голос, настолько притом рано и ярко развившийся, что под руководством известного в то время учителя пения Микша[90] она уже в пятнадцать лет казалась совершенно созревшей для амплуа примадонны. И действительно, она тогда же дебютировала в Дрездене в «Золушке» Россини[91]. Между прочим, именно это-то чересчур раннее развитие и погубило голос Клары, что очень тяжело отразилось на всей ее жизни.
Эти две сестры – Розалия и Клара – были, как я уже сказал, музыкальными представительницами нашей семьи. Именно благодаря дарованию Клары наш дом посещал капельмейстер К. М. фон Вебер. Его визиты чередовались с посещениями певца Сассароли[92], обладавшего великолепным сопрано. Между этими двумя представителями немецкой и итальянской музыки стоял учитель пения Микш.
Еще ребенком мне пришлось впервые услышать споры о немецкой и итальянской музыке, и тогда же я узнал, что кто добивается успеха у двора, тот должен усвоить себе итальянскую школу. На нашем семейном совете это обстоятельство приобрело определенное практическое значение. Талант Клары, пока голос ее еще был в полной силе, мог раскрыться как в немецкой, так и в итальянской опере. Помню совершенно ясно, что с самого начала я был на стороне немецкой оперы – может быть, здесь играло роль то противоположное впечатление, какое производили на меня обе эти фигуры: Сассароли и Вебер. Итальянский певец, колоссального роста, с большим животом, отталкивал меня своим высоким женским голосом, поразительно быстрой речью и постоянной готовностью хохотать пронзительно резким смехом. Несмотря на все его добродушие, несмотря на то, что в нашей семье его любили, этот человек был мне необыкновенно противен. Разговор и пение на итальянском языке казались мне изобретением дьявольской машины, а когда я по поводу несчастия, постигшего сестру, наслышался, кроме того, речей об итальянских интригах и коварстве, во мне сложилось настолько прочное отвращение ко всему итальянскому, что даже долгое время спустя я доходил в этом отношении до проявлений самой страстной вражды.