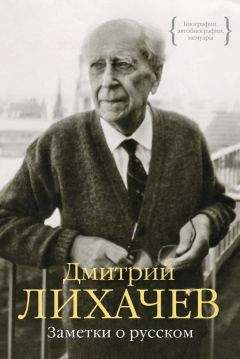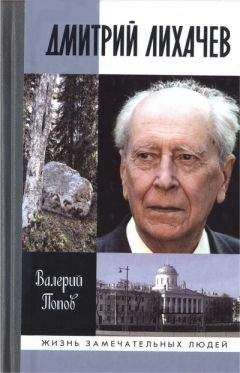И все-таки я буду говорить о национальном идеале, хоть он и менее определенен, чем антиидеал. Это для меня важнее, важнее еще и потому, что вдруг я найду единомышленников, а это так важно! Пусть со мной согласятся хоть двое-трое.
И прежде всего мне хочется говорить об идеале, которым жила Древняя Русь.
Чем ближе мы возвращаемся к Древней Руси и чем пристальнее начинаем смотреть на нее (не через окно, прорубленное Петром в Европу, а теперь, когда мы восприняли Европу как свою, оказавшуюся для нас «окном в Древнюю Русь», на которую мы глядим как чужие, извне), тем яснее для нас, что в Древней Руси существовала своеобразная и великая культура – культура глубокого озера Светлый Яр, как бы незримая, плохо понятая и плохо изученная, не поддающаяся измерению нашими европейскими мерами высоты культуры и не подчиняющаяся нашим шаблонным представлениям о том, какой должна быть настоящая культура.
В прошлом мы привыкли думать о культуре Древней Руси как об отсталой и «китайски замкнутой» в себе. Шутка ли: приходилось «прорубать окно в Европу», чтобы мало-мальски придать русской культуре «приличный» вид, избавить русский народ от его «отсталости», «серости» и «невежества».
Если исходить из современных представлений о высоте культуры, признаки отсталости Древней Руси действительно были, но, как неожиданно обнаружилось в XX веке, они сочетались в Древней Руси с ценностями самого высокого порядка – в зодчестве, иконописи и стенописи, в декоративном искусстве, в шитье, а теперь стало еще яснее: и в древнерусской хоровой музыке, и в древнерусской литературе. А высокие трудовые традиции русского крестьянства – особенно северного и сибирского, не знавшего прикрепления к земле? А народное творчество – особенно исключительно богатый эпос и проникновенная лирика?
Не вернее ли думать, что те области, где эта отсталость замечается, просто менее характерны для культуры Древней Руси и не по ним следует о ней судить?
Для того чтобы яснее представить себе нравственные идеалы Древней Руси, большим подспорьем мог бы служить «Измарагд» – одно из любимейших и авторитетнейших чтений в Древней Руси, а впоследствии у старообрядцев. «Измарагд» был, несомненно, более распространен, чем «Домострой». В. П. Адрианова-Перетц тридцать лет назад исследовала нравственные идеалы Древней Руси по «Измарагду». Исследование это она почему-то не смогла напечатать.
Я не собираюсь ни повторять выводы этого исследования, ни занимать вас своими. Думаю вообще, что исследование нравственных идеалов Древней Руси должно было бы быть сделано на более широких материалах, чем текст одного «Измарагда». Эта работа не для одного поколения ученых. Но, предваряя выводы будущих исследований, отмечу только, что огромная роль в создании этих идеалов принадлежит литературе исихастов, идеям ухода от мира, самоотречения, удаления от житейских забот, помогавшим русскому народу переносить его лишения, смотреть на мир и действовать с любовью и добротой к людям, отвращаясь от всякого насилия. Именно эти идеи в сильно трансформированном виде заставили Аввакума сопротивляться насилию только словом и убеждением, а не вооруженной силой, идти на неслыханное мученичество, проявляя одновременно и удивительную твердость, и незлобивость. В Аввакуме и его писаниях поражает не только его нравственная стойкость, но способность подняться над самим собой, взглянуть с доброй и всепрощающей усмешкой на своих мучителей, которых он, отвлекаясь от ненавистных ему взглядов и действий, готов даже пожалеть, зовет их «горюнами», «бедненькими», «дурачками». Аввакума иногда изображают мрачным фанатиком. Это глубоко неверно, он умел смеяться, с улыбкой смотреть на тщетные усилия своих мучителей. Он мягок и одновременно поразительно силен духовно.
В этих условиях, «в условиях» таких идеалов, у людей Древней Руси была удивительная любовь к миру при одновременном признании этого мира греховным, суетным, «мимотекущим» и злым.
Во всякой культуре есть идеал и есть его реализация: действительность, порождая некие идеалы, сама является одновременно попыткой их осуществления, очень часто их искажающей и обедняющей. Характеризуя и оценивая любую культуру, мы должны оценивать то и другое порознь. Это необходимо потому, что осуществление идеалов в действительности может оказаться в резком диссонансе с самими идеалами. Это расхождение может быть в степени их осуществления или даже в самом характере осуществления. Идеал и действительность могут оказаться при этом типологически различны, этически различны, различны эстетически. Они могут принадлежать, наконец, в одном народе различным географическим странам света: Востоку и Западу, Азии и Европе.
«Двойная жизнь» культуры также обычна, как двойственность человеческой личности, ибо национальная культура тоже личность.
Идеал – мощный регулятор жизни[7], но при всей мощности далеко не всесильный, а иногда направляющий культуру в сторону, отличную от той, в которую движет его исторический процесс со всеми его экономическими основами. Силы идеала, пробиваясь к своему осуществлению, встречаются с сопротивлением «культурной материи», которая может заставить большой парусный корабль культуры лечь в бейдевинд.
Именно такой случай мы имеем в культуре Древней Руси. Между идеалом культуры и действительностью оказался огромный разрыв. И не только потому, что идеал с самого начала был очень высок и становился все выше, не будучи накрепко привязан к действительности, но и потому, что реальность была порой чересчур низкой и жестокой. В древнерусском идеале была какая-то удивительная свобода от всякого рода претворений в жизнь. Это не значит, что этих претворений не было. Воплощались и высокие идеалы святости, и нравственная чистота.
Судить о народе мы должны по преимуществу, по тому лучшему, что он воплощал или даже только стремится воплотить в жизнь, а не по худшему. Именно такая позиция самая плодотворная, самая миролюбивая и самая гуманистическая. Добрый человек замечает в других прежде всего хорошее, злой – дурное. Геолог ищет ценную породу…
А как все-таки быть с братьями Карамазовыми? Пушкин один, а их все же трое, и стоят они перед нами сплоченным рядом. Идеал должен быть один, а Карамазовы – характеры. Типичные для русских людей? – да, типичные. Это «законные» братья, но есть у них еще и четвертый братец, «незаконный»: Смердяков.
В «законных» Карамазовых смешаны разные черты: и хорошие, и плохие. А вот в Смердякове нет хороших черт. Есть только одна черта – черта чёрта. Он сливается с чертом. Они друг друга подменяют в кошмарах Ивана. А черт у каждого народа не то, что для народа характерно или типично, а как раз то, от чего народ отталкивается, открещивается, не признает. Смердяков не тип, а антипод русского.
Карамазовых в русской жизни много, но все-таки не они направляют курс корабля. Матросы важны, но еще важнее для капитана парусника румпель и звезда, на которую ориентируется идеал.
Было у русского народа не только хорошее, но и много дурного, и это дурное было больши́м, ибо и народ велик, но виноват в этом дурном был не всегда сам народ, а смердяковы, принимавшие обличье государственных деятелей: то Аракчеева, то Победоносцева, то других… Не случайно так много русских людей уходило на север – в леса, на юг – в казаки, на восток – в далекую Сибирь. Искали счастливое Беловодское царство, искали страну без урядников и квартальных надзирателей, без генералов, посылавших их отнимать чужие земли у таких же крестьян, как и они сами. Но оставались все же в армии Тушины, Коновницыны и Платоны Каратаевы: это когда войны были оборонительные или освобождать приходилось «братушек» – болгар и сербов.
«Братушки» – слово это придумал народ, и придумал хорошо.
Следовательно, меньше было в русском народе национального эгоизма, чем национальной широты и открытости.
Что делать! – каждый предмет отбрасывает в солнечный день тень, и каждой доброй черте народа противостоит своя недобрая.
Патриотизм против национализма
Существуют совершенно неправильные представления о том, что, подчеркивая национальные особенности, пытаясь определить национальный характер, мы способствуем разъединению народов, потакаем шовинистическим инстинктам.
Великий русский историк С. М. Соловьев в начале седьмой книги своей «Истории России с древнейших времен» писал: «Неприятное восхваление своей национальности… не может увлечь русских…» Это совершенно верно. Восхвалением самих себя по-настоящему русские никогда не «хворали». Напротив, русские очень часто, а особенно в XIX и начале XX века, были склонны к самоуничижению – преувеличивали отсталость своей культуры.
Русские хоть и не всегда, но по большей части жили в мире с соседними народами. Мы можем отметить это уже для древнейших веков существования Руси. Мирное соседство русских и карельских деревень на севере в течение тысячелетия – факт очень показательный. Соседство с русскими мери, веси, ижоры и т. д. не было окрашено кровопролитиями. В Киеве был Чудин двор – какого-то знатного представителя чуди (будущих эстонцев). В Новгороде была Чудинцева улица. Там же в недавние годы найден древнейший памятник финского языка – финская берестяная грамота, лежавшая рядом с написанными по-русски. Несмотря на все войны со степью, иные из которых носили отнюдь не национальный, а сугубо феодальный характер, русские князья женились на знатных половчанках. Не было, значит, расовой отчужденности. Да и вся история русской культуры показывает ее преимущественно открытый характер, восприимчивость и в массе своей отсутствие национальной спеси. О том же писал и Достоевский в статье «Два лагеря теоретиков…»: «Но узкая национальность не в духе русском. Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе, – во имя негодующей любви к правде, истине… С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрине и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее, жизненней, чем положительная литература времен очаковских и покорений Крыма.