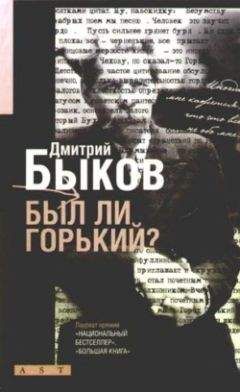Ознакомительная версия.
А на телеге стоит высокий мужик, в белой рубахе, в черной смушковой шапке; в одной руке он держит вожжи, в другой – кнут и методически хлещет им раз по спине лошади и раз по телу маленькой женщины, и без того уже добитой до утраты человеческого образа. Идут мужчины, кричат нечто отвратительное тому, что стоит в телеге. Он оборачивается назад к ним и хохочет, широко раскрывая рот.
Это я написал не выдуманное мною изображение истязания правды – нет, к сожалению, это не выдумка. Это называется «вывод». Так наказывают мужья жен за измену». («Вывод».)
О дальнейшем Горький рассказывал по-разному. По версии, записанной Николаем Асеевым в Сорренто в ноябре 1927 года, Пешков не надеялся на свои силы – разъяренная толпа не послушалась бы чужака – и побежал к попу, надеясь, что крестьяне послушаются его. Поп в ответ процитировал «Жена да убоится мужа своего» – и Пешков якобы ударил его по лицу. Поп закричал, прибежали мужики – «Нашего попа бьют!» – и измутузили Пешкова, отвлекшись от истязания неверной жены. При этом Горький подчеркивал, что попа в селе ненавидели все, но то, что его посмел бить чужой, было оскорблением непростительным. Его бросили в кусты, в грязь, где его потом подобрал проезжий шарманщик и отвез в больницу. По другой версии, исходившей от самих кандыбинских крестьян сорок пять лет спустя, в 1934 году, – Пешков сам вмешался в экзекуцию и был избит. Как бы то ни было, в тридцать пятом решено было перепечатать этот старый очерк и сопроводить его светлой картиной новой жизни села Кандыбино. Спецкор «Крестьянской газеты» Татьяна Новикова съездила в Кандыбино; Горький точно запомнил расположение села, где его чуть не убили: источник, корчма, церковь. Церковь теперь стояла без креста и колокольни, с надписью «Клуб». Корчма лежала в развалинах. Собрали стариков, и они подтвердили: да, такое в Кандыбине бывало, и не раз. Женщину звали Горпына Гайченко, ее мужа – Сильвестр. «Он ее бьет, а мы за повозкой бежим, – вспоминал Константин Кальтя. – Нам интересно, что мужик бабу бьет. Потом вижу – на пригорке русявый человечек с усами, в белой рубахе, в соломенной шляпе. Корзиночка, помню, у него была, палку в руке держал. И вот бросает человек корзиночку наземь…» И побежал вмешиваться; но если даже Пешкову и удалось спасти в тот раз Горпыну Гайченко, то помочь прочим было не в его власти. В Кандыбине так развлекались нередко.
После шумного общегосударственного обсуждения проблемы семейного насилия, совершенно искорененного в наше прекрасное время, село Кандыбино было торжественно переименовано в Пешково (согласитесь, Горькое по контексту не звучит, да и пришел он сюда пешком). Апофеозом абсурда, конечно, был бы новый приезд Горького в Кандыбино, сопровождаемый почетными побоями, но Горький в Николаев не поехал, сославшись на недомогания. «Крестьянская газета» перепечатала «Вывод» и параллель к нему – репортаж о том, как молодая женщина, почти девочка, с темно-русыми кудрями, едет по тракту на тракторе. Никто ее не бьет – сама кого хочешь переедет. Любопытно бы сегодня съездить в это село, поспрошать, что там и как. Называется оно, кстати, по-прежнему Кандыбино и расположено в Новоодесском районе Николаевской области. Наверняка там есть старики, помнящие визит корреспондентов «Крестьянской газеты».
Соседом Горького в николаевской больнице оказался прототип Челкаша, рассказавший ему не только «челкашеский» сюжет, но также и историю ограбления и убийства, из которой получилась потом высоко оцененная Чеховым новелла «В степи». Из Николаева, отлежавшись в больнице, Горький отправился в Очаков и занимался добычей соли на Днепровском лимане – работа была адская, люди ненавидели всех – и друг друга, и чужаков, – и подсунули Пешкову тачку с расщепленными рукоятками: она сорвала ему кожу с ладоней. Там он впервые увидел, что и артельный труд, столь радостно описанный в «Моих университетах», может быть проклятием, и у людей труда плоховато с солидарностью, и чем тяжелей труд, чем он каторжней, тем меньше солидарности. Из Очакова он пошел в Бессарабию, попал к сбору винограда, и эта работа понравилась ему больше прочих. Дойдя до Дуная, он через Аккерман вернулся в Одессу и устроился грузчиком в порт. Там он познакомился с неким Цулукидзе – впоследствии героем рассказа «Мой спутник», где он выведен под именем Шакро Птадзе. Этот грузинский князь попал в Одессу в погоне за ограбившим его другом, друга не нашел, прожился, проелся и не мог вернуться в Тифлис. Пешков вызвался ему в спутники. Пожалуй, этот рассказ из самых обаятельных у раннего Горького – потому что обаятелен и сам спутник, – но отношение Горького к этой жуликоватой породе жизнелюбов, готовых ежеминутно подставить и предать, менялось. В юности оно было вполне добродушным, а в 1919 году он писал вот как:
«Множество спутников, подобных Шакро, прошло рядом со мною по различным путям, сбивая меня иногда с моей дороги. Я не жалуюсь на них, не осуждаю себя. Но каждый раз, когда на шею мне садится человек, которого надо было куда-то вынести, я нес его, насколько хватало сил и охоты, нес и вспоминал Шакро. Это – спутник мой. Я могу его бросить, но мне не уйти от него, ибо имя ему – легион. Это спутник всей жизни, он до гроба пойдет за мной…»
И опять-таки трудно понять – сам ли он выбирал таких спутников или они кидались на него, видя в нем силу и защиту? Наверное, срабатывали оба фактора, просто Горькому и самому нужны были слабые люди рядом – так сказать, для контраста, от противного, ради самоуважения. Несет, а сам примечает, презирает, укрепляется в самооценке. Отсюда и его беспрерывные кампании помощи то голодающим, то начинающим, то первым встречным – вечно сомневаясь в себе, не находя в себе нравственной основы, в чем признавался много раз, он нуждался в таких доказательствах собственной человечности.
В дороге Пешков и Цулукидзе все время спорили. Пешков убеждал князя в преимуществах альтруизма, Цулукидзе – в преимуществах кавказского аристократизма. Все, что заработает Пешков, съедает Цулукидзе, не испытывая ни малейших угрызений совести. Цулукидзе, однако, смеялся над Пешковым, а на все уговоры пойти заработать хоть на кусок хлеба огрызался: «Я не умею работать!»
«Он меня порабощал, я ему поддавался и изучал его, следил за каждой дрожью его физиономии, пытаясь представить себе, где и на чем он остановится в этом процессе захвата чужой личности. Я давал ему есть, рассказывал о красивых местах, которые видел, и раз, говоря о Бахчисарае, кстати рассказал о Пушкине и привел его стихи. На него не производило все это никакого впечатления». («Мой спутник».)
Как ни странно, дальнейшая схема отношений Пешкова и Цулукидзе, он же Птадзе, весьма точно воспроизводит историю российско-грузинской коллизии: сначала это была бескорыстная дружба, потом попреки и презрение с кавказской стороны, разговоры об утеснениях, завоеваниях, прямые насмешки и полное неприятие того самого культуртрегерства, которым Россия пыталась заниматься на Кавказе. Конечно, Россия – особенно современная – тоже не пряник, а все-таки черты грузинского характера – особенно в части отношения к труду – Горький подметил весьма точно. «Я выжу, ты смырный. Работаешь. Мэня не заставляешь. Думаю – почэму? Значит – глупый он, как баран…»
Ознакомительная версия.