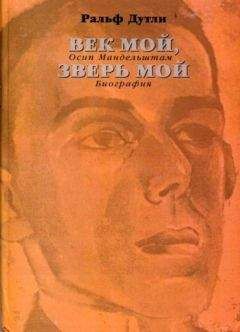Но, пожалуй, еще более важно отметить, что получить благословение у Вячеслава Иванова для Мандельштама, помимо всего прочего, означало приобщиться к символизму – первой и последней великой поэтической школе ХХ века. В течение трех следующих лет Мандельштаму предстояло настойчиво и, как правило, не слишком успешно искать личных контактов с менее доброжелательными и чуткими, чем Иванов, представителями русского символизма.
Зародившийся в самом начале 1890-х годов, русский символизм «сознательно стремился к обновлению поэтических средств с тем, чтобы выразить обновление мировосприятия – смену больших исторических эпох <…>. Социальные, гражданские темы, стоявшие в центре внимания предыдущих поколений, решительно отодвигаются в сторону экзистенциальными темами – Жизни, Смерти, Бога»[94]. Новая тематика потребовала новых художественных средств, и главным среди них стал символ. «Называя явления земного, посюстороннего мира, символ одновременно “знаменует” и все то, что “соответствует” ему в “иных мирах”, а так как “миры” бесконечны, то и значения символа для символиста бесконечны»[95].
Нужно еще сказать, что к тому времени, как Мандельштам вступил в литературу, символизм уже оказался в полосе идеологического кризиса. О сути этого кризиса предельно кратко и внятно написал в своем дневнике Валерий Брюсов: Вячеслав Иванов читал «доклад о символизме. Его основная мысль – что искусство должно служить религии. Я резко возражал. Отсюда размолвка»[96].
Действительно, между старшими и младшими символистами наметился раскол. Старшие (в первую очередь Брюсов и Бальмонт) полагали, что поэт призван решать лишь эстетические задачи; младшие (прежде всего Вячеслав Иванов, Блок и Белый) хотели видеть в поэте-символисте мистика, чья задача состоит ни больше ни меньше как в обновлении языковой коммуникации между людьми и Богом.
Стихотворцам мандельштамовского поколения очень скоро придется либо выбирать из этих двух позиций, либо искать свой собственный, третий путь.
Летом 1909 года, живя с родителями на даче в Царском Селе, Мандельштам наносит визит своего рода антиподу Вячеслава Иванова – замечательному поэту и переводчику Иннокентию Федоровичу Анненскому. «Тот принял его очень дружественно и внимательно и посоветовал заняться переводами, чтобы получить навыки <…>. К Анненскому он прикатил на велосипеде и считал это мальчишеством и хамством»[97]. Как и некоторые другие будущие акмеисты (Ахматова, Гумилев, Михаил Зенкевич), Мандельштам испытал весьма значительное влияние Анненского. От автора «Кипарисового ларца» он, в частности, унаследовал пристрастие к эфемерным, недолговечным природным и рукотворным предметам. Мандельштамовские «игрушечные волки», «быстроживущие стрекозы» и «хрупкой раковины стены» органично вписываются в перечень мотивов, начатый одуванчиками, бабочками и воздушными шариками Анненского. 3 декабря 1911 года Мандельштам выступил на заседании Общества ревнителей художественного слова с прочувствованной речью памяти Анненского. Весьма многозначительным кажется то обстоятельство, что с вырванным из «Аполлона» листком, где было напечатано стихотворение Анненского «Петербург», Мандельштам не расставался в течение всей своей жизни.
Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты…
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.
Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.
Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки…
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознанье проклятой ошибки.
Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отрава бесплодных хотений.
Сам он впервые посетил редакцию «Аполлона» в конце весны – в начале лета 1909 года. В мемуарах Сергея Константиновича Маковского это посещение предстает почти сценой из чеховского водевиля. К склонившемуся «над рукописями и корректурами» редактору заявляются «мамаша и сынок», «невзрачный юноша лет семнадцати». Юноша, «видимо, конфузился и льнул к ней вплотную, как маленький, чуть не держался “за ручку”». Далее «мамаша» разражается таким идеально выдержанным в водевильной стилистике монологом: «– Мой сын. Из-за него и к вам. Надо же знать, наконец, как быть с ним. У нас торговое дело, кожей торгуем. А он все стихи да стихи! В его лета пора помогать родителям. Вырастили, воспитали, сколько на учение расходу! Ну что ж, если талант – пусть талант. Тогда и университет, и прочее. Но если одни выдумки и глупость – ни я, ни отец не позволим. Работай, как все, не марай зря бумаги… Так вот, господин редактор, – мы люди простые, небогатые, – сделайте одолжение, скажите, скажите прямо: талант или нет! Как скажете, так и будет…». Ударный финал сценки: «<Я> готов был отделаться от мамаши и сынка неопределенно-поощрительной формулой редакторской вежливости, когда – взглянув опять на юношу – я прочел в его взоре такую напряженную, упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешел на его сторону: за поэзию, против торговли кожей.
Я сказал с убеждением, даже несколько торжественно:
– Да, сударыня, ваш сын – талант»[98].
Рассказ Маковского «о “случае” в “Аполлоне”, – вспоминала Надежда Яковлевна, – дошел до нас при жизни Мандельштама и глубоко его возмутил»[99]. Что́ должно было вызвать негодование поэта в первую очередь? Прямая речь, вложенная Маковским в уста его матери, и самый портрет «немолодой, довольно полной дамы» с «бледным взволнованным лицом», в котором почти невозможно распознать реальные черты Флоры Осиповны Вербловской (зато – с легкостью – типичную для русской литературы карикатуру на чадолюбивую еврейскую мамашу). Не следует также забывать о том, что ко времени первого появления в редакции «Аполлона» Мандельштам уже был обласкан на «башне» у Вячеслава Иванова, а потому совершенно неоправданными выглядят запоздалые претензии Маковского выставить Мандельштама пришедшим, что называется, «с улицы», а себя – проницательным открывателем юных талантов.