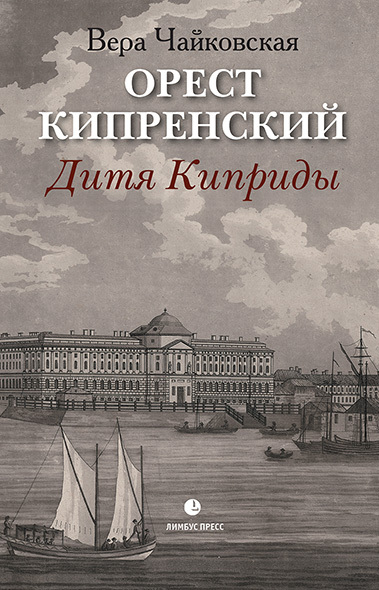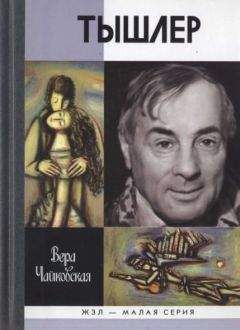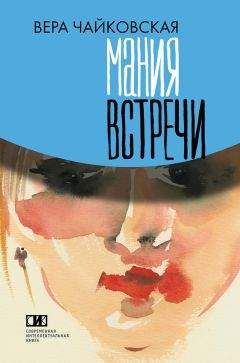даже досады.
Проницательный Валерий Турчин пишет о духе «повседневности или усталости», пронизывающем портрет [50]. Я бы добавила – какой-то мелочной раздраженности.
И в военной фортуне что-то у Томилова не сложилось! То ли дело у его племянников – братьев Ланских, которых художник в этом же году рисует. И наград у них на мундирах побольше, и вид помужественнее. Понюхали пороха европейских походов. Алексей Ланской отличился в громких сражениях при Смоленске и Бородине, был в 1812 году адъютантом князя Бориса Голицына, а в 1813-м участвовал в Саксонской кампании. Это тебе не крестьянское ополчение возглавлять!
Ловит, постоянно ловит Орест Кипренский эту внутреннюю неуверенность, обиду, недовольство в чертах Томилова, и понимает, как это разрушительно для личности, как это мешает необходимому душе ребяческому чувству счастья. Вот ведь и его мечта об Италии все не осуществляется, но он… Томилов – некая оборотная сторона души, которую нужно у себя изживать.
Что же касается воинской славы…
В 1809 году, находясь в Москве, Кипренский напишет ставший знаменитым «Портрет Евграфа Давыдова» (ГРМ), героя, которого будут упорно отождествлять с его двоюродным братом – Денисом Давыдовым, буйным гусаром, поэтом, другом и собутыльником Александра Пушкина. Портрет, который сам художник очень ценил и не расставался с ним до конца жизни. Собираясь в 1836 году вернуться, он послал его из Италии в Петербург. Этот – тоже гусар. Во всяком случае, в гусарской экипировке. Но вот что интересно. Кипренского мало занимает «военный» аспект портрета. Он передает то, что больше и глубже любых определений типа «гусар», «патриот», «защитник родины». Этот красиво вырастающий перед нашими глазами (в духе вандейковских персонажей [51]) молодой военный, подбоченившийся и другой рукой опершийся на саблю, в парадном красном ментике и белых лосинах, застигнут в минуту какого-то важного воспоминания. Он весь освещен непонятно откуда падающим светом. За его спиной – таинственно темнеющий пейзаж с деревьями и полоской светлого неба.
Орест знал «странных» военных, таких как Костя Батюшков, с чуткой и нежной душой, у которых в обыденной жизни перед глазами все время всплывали картины минувшего: то погибший в ужасном сражении под Лейпцигом друг, то возлюбленная, которая за годы войны могла его забыть…
Батюшков писал:
Ты ль это, милый друг, товарищ лучших дней!Ты ль это? – я вскричал, – О воин вечно милый!Тень друга, 1814
Через много лет замечательный российский художник Кузьма Петров-Водкин напишет картину «После боя» (1923), где участникам Гражданской войны, мирно сидящим за столом, будут мерещиться видения минувшего боя.
Что-то подобное всплывает и перед внутренним взором Евграфа Давыдова, делая его образ значительным и неоднозначным. Вот этой-то внутренней значительности нет как нет в образе Алексея Томилова. Что-то его все время гложит, чего-то он не добирает ни в любви, ни в военном деле.
А через пятнадцать лет запечатленный на третьем портрете Кипренского Томилов превратится в потухшего преждевременного старичка, которому «все не мило». Он полностью «скукоживается», лишается всех детских черт, что для Кипренского – суровый приговор.
Художник, ведущий с Томиловым на протяжении всей жизни какой-то внутренний спор, как бы предугадал этот путь постепенного душевного одряхления. Если воспользоваться романтической антитезой Константина Батюшкова в стихотворении «Странствователь и Домосед», Томилов теперь окончательный «домосед», он ороговел, определился, перестал меняться.
Художник достаточно безжалостно, не затеняя потухших глаз без блеска в зрачках, обвисших щек, едко сложенных губ, передает его внутреннюю выпотрошенность.
Позднее Антон Чехов в рассказе «Ионыч» покажет этот процесс духовного «скукоживания».
Богатый, родовитый, интересующийся искусством Алексей Томилов оказался человеком без внутреннего стержня. Ни подлинной большой любви, ни творческих открытий, ни необычных деяний! И главное, что его это гложит. И тут снова Кипренский как бы противопоставляет портрету Томилова свой автопортрет, написанный накануне нового резкого поворота в жизни, нового «странствования». В том же 1828 году Орест опять отправляется в Италию, уже без всякого пенсиона, в неизвестность…
Как и Томилова, он изображает себя на коричневом фоне, высвечивая лицо («Автопортрет», ГТГ, 1828). Белый, слегка задравшийся воротничок рубашки придает нарядный вид его домашнему халату. Да, он уже не так молод, не так хорош (хотя все-таки хорош!), не так беззаботен! Но в руке его по-прежнему кисть, а глаза горят каким-то задором упрямства. Нет, шалишь, его не так-то легко сломать, лишить веры!
Один – выдохшийся и отживший «домосед», другой – полный внутреннего огня упрямый «странствователь». Надо сказать, что некоторую точку во взаимоотношениях Кипренского с Томиловым ставит одно ядовитое высказывание Алексея Романовича в письме к Айвазовскому, написанном уже после смерти Кипренского. Из него ясно, что Томилов «приятеля» никогда не любил и тайно ему завидовал. Томилов наставляет Айвазовского, чего не надобно делать: «Я распространился столько, любезный Иван Константинович, о картине луны оттого, что капризы, причуды и вообще изысканность Кипрянского, этого высокого художника-проказника, пугают меня, чтобы и ты не сбился на его стать в этом опасном отношении» [52].
Речь идет о лунном пейзаже в картине Кипренского «Анакреонова гробница» (впоследствии утрачена), который Томилову не нравится. Но это бы еще ничего, эта картина вообще вызывала споры. Но Томилов «переходит на личность» Кипренского. Примечательно само написание фамилии Кипрянский, для Томилова характерное [53].
В этом ощутима некоторая издевка. Так сам Кипренский, еще лично не знакомый с Карлом Брюлловым, называл его в письмах друзьям шутливо-иронично Брыло или Брылов.
А дальше следует целый каскад недоброжелательных определений умершего «приятеля». У него и «капризы», и «причуды», и вообще он «художник-проказник», даром что «высокий», что добавляет яду. Можно только удивиться интуиции художника, который ловил эти сигналы зависти и злобы.
Повторю еще раз: Томилов был отталкивающим зеркалом, темной стороной души, с которой художник упорно боролся, культивируя в себе совсем другие качества, о которых прекрасно напишет один из первых его биографов: «Все, однажды задуманное и решенное в душе, Кипренский преследовал упорно, как римский гладиатор, отстаивая однажды занятое им поле до последнего истощения сил, до последней капли теплой крови» [54].
В самом деле, мы еще увидим, с каким безумным упорством Кипренский пытался осуществить две почти неосуществимые большие мечты своей жизни – добиться пенсионерской поездки в Италию и потом жениться на итальянской девочке Мариучче, которая дожидалась его в католическом монастырском приюте.
Имение Томиловых Успенское стало для «бесприютного» Кипренского своеобразной заменой родной мызы Нежинской, как потом тверской дом Бакуниных, загородное Приютино Олениных, Новая Деревня А. Ф. Шишмарева и, конечно же, Рим, куда он будет рваться из Петербурга…
Очутившись в Москве в 1809–1810 годах, Орест, как пишет в письме к Лабзину граф Ростопчин, «почти помешался от работы» [55], и едва ли у него было время посещать Английский клуб и другие людные заведения. Это был человек, как в сущности и Карл Брюллов, какой-то