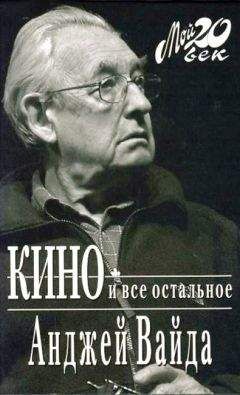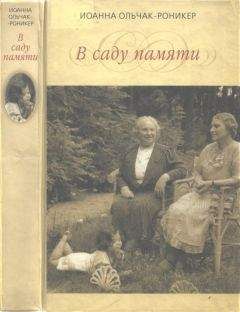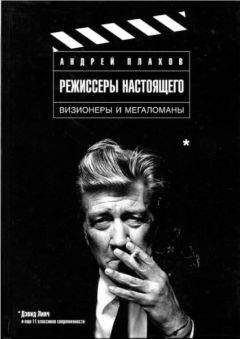Так оно и произошло. Весной 1946 года я сдал на так называемый малый аттестат зрелости и, невзирая на отчаяние матери-учительницы, которая свято верила, что польский интеллигент не может жить без настоящего полноценного среднего образования, поехал сдавать экзамены в Академию. Меня приняли вольнослушателем.
* * *
В 1946–1949 годах в Кракове нечего было и мечтать о том, чтобы заработать рисованием хоть что-нибудь. Здесь на небольшом пространстве пребывало триста студентов Академии изящных искусств и, наверное, в два раза больше «взрослых» живописцев, скульпторов и графиков. Но уже на втором курсе перед нами открылась неожиданная возможность. Выставка Обретенных Земель во Вроцлаве в 1948 году расположилась на огромных территориях. Для ее оформления наняли целую армию художников. Я помню неуклюжую мазню на стене павильона книги и печати, которую сотворили мы с товарищами, а также барельеф над входом в ресторан «Под четырьмя куполами».
Словом, я заработал и решил приодеться. На рынке около вроцлавских торговых павильонов приобрел черную кожаную куртку, как уверял продавец, когда-то принадлежавшую немецкому офицеру-подводнику. Я охотно принял военную легенду кожанки, а торговец — весь мой заработок. На долгие годы я стал владельцем вещи, возбуждавшей зависть окружающих. Куртка несла свою службу большую часть моей кинематографической жизни.
Когда в 1954 году начались съемки «Поколения», моя куртка оказалась костюмом Цибульского. К сожалению, в сцене драки (к слову, вырезанной цензурой) она сильно пострадала от ножа, которым Ломницкий неосторожно прошелся по спине Збышека. Я одинаково убивался как над вырезанной удачной сценой, так и над испорченной единственной своей всесезонной верхней одеждой. Несмотря ни на что, я продолжал носить свою куртку аж до 1968 года, когда Даниэль Ольбрыхский выступил в ней в фильме «Все на продажу». За прекрасно сыгранную роль я пожаловал ему эту куртку.
Из дневника:
1. «Все, что ни сказано о женщине, все правда».
Бальзак
2. «Отношения мужчины и женщины складываются по-настоящему интересными, если их связывают взаимные наслаждение, память или желание».
Шамфор
3. «Тот, кто плохо говорит о женщинах, вообще не любит их, потому что самый глубокий способ чувствования чего бы то ни было основан на страдании».
Флобер
4. «Неверность женщин не искажает их черты. Природа, которая так любит над ними трудиться, равнодушна к их недостаткам».
Франс
5. «Мужчина создал женщину — из чего? Из ребра бога — своего идеала».
Ницше
6. «Женщины умеют немыслимо красиво удивлять на следующий день».
Стендаль
7. «Если хочешь, чтобы женщина вернулась, вышвырни ее за дверь».
Запольская
______
По сорту бумаги и по ее пожелтевшему виду я сужу, что эти высказывания на тему женщин и женственности я должен был выписывать из книг, которые читал в 1948 году или около того. И хотя мой опыт в этой области начинался с сентенций наилучших писателей мира, без подсказок отца, который покоился где-то в братской могиле, я чувствовал себя беспомощным. Что я тогда думал о женщинах?
Мое хаотичное воображение металось между образами ангельской святости и глухой чернотой дьявола. Нафаршированный романтической поэзией и подобными афоризмами, которые я знал тогда на память, я не имел ни малейшего представления, что об этом предмете думать на самом деле. Ну и понятно, что первая женщина, обратившая на меня внимание, стала моей женой. Это произошло не сразу. Только после трех лет жениховства мы поженились в Кракове, разумеется, в Отделе записи актов гражданского состояния. Почему «разумеется»? Сегодня не берусь ответить точно, но тогда никакая другая возможность не приходила мне в голову..
Габриэля Обремба была красивой девушкой, и я понятия не имею, почему она выбрала именно меня. Рисовала она так смело, как никто другой в нашей мастерской, училась пению, а ее голос восхищал даже примадонну, преподавательницу Габрыси Стеню Завадскую. Я был влюблен, но чтобы жениться? Это как-то вообще было не в духе Академии. А кроме того, мы тогда ждали начала третьей мировой войны. Никто в нее всерьез не верил, но на нас давили военное прошлое, вынесенная с тех времен наука, из которой следовало, что в одиночку всегда легче выжить. Дети? Да кто из нас мог взять на себя ответственность за других, когда и сами-то мы едва справлялись с собственным бытом…
Это сегодня звучит дико, но в те годы я на самом деле не имел ни малейшего представления о женщинах. Воспитанный со всей строгостью дома, в школе и в костеле, оказавшись на свободе, да к тому же среди художников, я ударился в то, что Петр Верховенский в «Бесах» Достоевского, говоря о Ставрогине, называет «насмешливой жизнью». В этом не было ничего необычного, но лишь в двадцать лет в буквальном смысле невинным юношей я оказался в совершенно новом мире. Говорят, что война несет страшное моральное опустошение, но мы, поколение интеллигентов, воспитывались в годы войны и родителями, и нашими командирами для светлого будущего. Разумеется, те, кто, как, например, Тадеуш Ружевич, оказавшись в самом пекле войны, были покалечены всерьез и потом долго зализывали душевные раны в надежде, что женщине удалось сохранить в себе человечность в то время, как мужчина ее полностью утратил.
А ведь любит,
для чего же к стене отвернулась?
Этак, голову отворотив,
отрешишься от мира,
где чирикают птицы
и в кричащих галстуках
щеголяют парни.
А она одинока
перед мертвой стеной.
Так она и останется
под огромной стеной,
давящей,
жалкая и маленькая,
сжавшая кулачок.
А я сижу,
ноги, словно каменья,
не хватаю ее
и не уношу,
хоть она легче вздоха.
Тадеуш Ружевич. Стена[22]
Часто задумываясь над моей режиссерской карьерой, я прихожу к выводу, что решающим моментом в ней был фактор пренебрежения домом. Регулярные домашние обеды я стал есть, только когда мне подвалило к пятидесяти. Раньше мне требовалось много времени, чтобы посвятить его искусству.
* * *
Кроме нескольких фотографий, от родителей остались мне отцовский знак 41-го пехотного полка и две маминых брошки — одна представляет собой цветы из полотна, другая — чайку. Эту чайку я купил ей в Гдыне во время последних своих школьных каникул летом 1939 года. Позже коллекция пополнилась дипломом Бронзового Креста ордена Virtuti Militari[23] V класса, посмертной наградой отцу за героизм в войне 1939 года (диплом я получил из рук защитника Варшавы генерала Роммеля), и купленным в антикварном магазине самим Крестом, принадлежавшим кому-то, кто, видно, больше в нем не нуждался. Все это на одной дощечке я поместил в рамку. Это memento, посланное мне — помимо их воли — Отцом и Матерью, позволяет мне сохранять двойственное отношение и к собиранию вещей, и к самому месту проживания. Как написал Стафф[24],