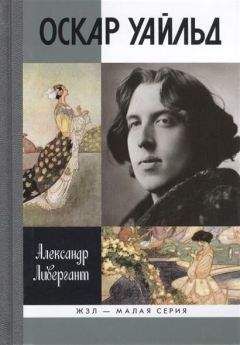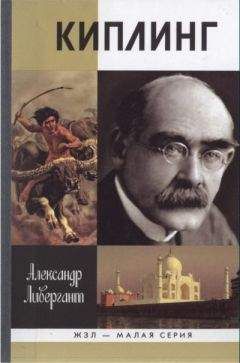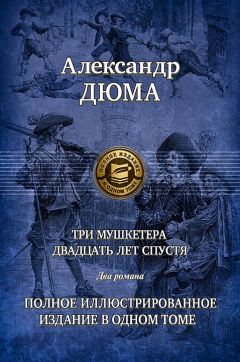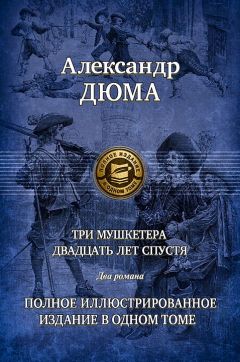Юный Уайльд льет слезы умиления после встречи с папой, слезы скорби — на могиле Китса. «Мученик, сраженный слишком рано» (как он напишет позже в одноименном стихотворении), «Эндимион», «божественный юноша», «священнослужитель культа Красоты», «Святой Себастьян, что устремляет чистый, незамутненный взор к Вечной красоте размыкающихся небес», — с кем только не сравнивает Уайльд в поэтическом раже своего кумира!
Вообще, легко умиляется и скорбит — сентиментален. Старший сын Сирил спросит отца, почему у него глаза на мокром месте, когда он читает ему с братом «Великана-эгоиста», и Уайльд ответит, что истинная красота неизменно вызывает у него слезы.
Плачет легко, но еще легче — смеется. В Оксфорде, этой обители гротескных обычаев и нравов, он чувствует себя как дома, ему хорошо: «Самое прекрасное место в Англии», «самое многоцветное [flower-like] время в моей жизни». А ведь когда хорошо нам, то хороши и мы. Среди оксфордских студентов и преподавателей нет, кажется, ни одного, кто бы, вспоминая Уайльда, сказал о нем — о его внешности, характере, привычках — хоть одно дурное слово. Сплошные славословия. «Крупные черты лица, освещенные умом, сверкающие глаза, широкая радостная улыбка» — это Хантер-Блэр. Не скупятся на дифирамбы и остальные: «Исключительные способности собеседника»; «добродушие, редкое умение сказать приятное»; «превосходный, вдумчивый ученый-классик… прочел много больше всех нас…»; «у него было много превосходных качеств и вдобавок необыкновенное обаяние»; «разбирается во всем, от картин до лошадей»; «нрав переменчивый, но живой и прелестный»; «ни разу не слышал от него ни одного дурного слова»; «высоко себя ставил, хотел быть ни на кого не похожим, при этом вел себя естественно, к себе располагал»; «ни один студент не привлекал к себе столько внимания и не оставил после себя столько легенд»; «был, прежде всего, личностью»; «Уайльд — явление».
А между тем вписаться в оксфордскую студенческую жизнь, где тон задавали самодовольные снобы — выпускники Итона и Харроу, было не просто, тем более если ты и в самом деле «личность» и «явление». Тем более — провинциалу да еще ирландцу, мало того, ирландцу с ярко выраженным национальным самосознанием; леди Уайльд старалась не зря. «Я не англичанин, я ирландец, а это совсем другое дело», — напишет он спустя годы в связи с запретом «Саломеи». А в интервью корреспонденту американской газеты скажет, что гордится тем, что он ирландец. «В Лондоне я живу из-за его богатой художественной жизни. В Ирландии тоже нет недостатка в культуре, но у нас культура погружена в политику. Останься я в Ирландии, и карьеру я мог бы сделать только политическую». В глазах англичан ирландец — не только бунтарь, краснобай и острослов, но еще и младенец, наивное, малоуправляемое эксцентричное дитя, серьезного отношения к себе не заслуживающее. «Пока вы не отдадите себе отчет в том, что он ирландец, — напишет о своем возлюбленном лорд Альфред Дуглас, — вам не понять его сути. Во многих отношениях он прост и невинен, как ребенок». Не украшало этого ребенка в глазах соучеников и то, что он был переростком, самым «старым» студентом на курсе; в Оксфорд Уайльд поступил поздно, зачисление состоялось на следующий день после его двадцатилетия.
Но ведь вписался, пусть и не сразу. В первом семестре он еще зажат, нервничает, в глаза бросаются обидчивость, резкость, а в уши — ирландский «брог», акцент, от которого англичане покатываются со смеху по сей день. Однако остроумие, хорошо подвешенный язык, начитанность берут свое: очень скоро от «брога» и зажатости не осталось и следа. Да, он знал себе цену, но особенно поначалу старался плыть по течению, не выделяться. Во втором семестре становится, как и многие его «сооксфордцы» (и как в свое время отец), масоном. Вступает в университетскую масонскую ложу «Аполлон» и с удовольствием облачается в масонское одеяние, носит брюки по колено, длинный сюртук с фалдами, белый галстук, шелковые чулки. Может опоздать к ужину или на экзамен, а то и к началу семестра, может, в нарушение тогдашних правил колледжа, заглянуть с друзьями в паб, прогулять лекцию, вернуться к себе на квартиру позже девяти вечера. За все это порицается и штрафуется, зато вызывает расположение бывалых старшекурсников, «заявляет о себе». Готов дать отпор тем, кто из зависти, либо из желания «разобраться с эстетом и эксцентриком», владеющим непростым искусством «красиво жить», либо просто от нечего делать могут вломиться к нему в квартиру или же начать потешаться над тем, как он держится, как смешно, нараспев говорит. Когда силы неравны, на помощь приходит чувство юмора. Однажды, вспоминает один из студентов, несколько человек набросились на него, схватили за руки и за ноги, втащили на гору и столкнули вниз. Он же — такова молва — встал, отряхнулся и как ни в чем не бывало обронил: «А вид с горы и в самом деле недурен…»
Как в Порторе и Тринити, хорошо учится, при этом (тоже дань моде?) любит изобразить уставшего от жизни и учебы повесу, которому ничего не интересно. Да, успевает прекрасно, особенно по классическим дисциплинам. Однако еще лучше — шутит. Его остроты, меткие реплики, парадоксы, афоризмы идут на ура, цитируются, передаются из уст в уста. Никто не смеялся над ним в Оксфорде больше, чем он сам над собой, — а ведь это качество, как известно, ценится — и заслуженно — везде и всегда. Уже в Оксфорде у него запоминающиеся туалеты, и не только масонские: твидовые пиджаки в крупную клетку, темно-синие галстуки, высокие воротнички, шляпа с широкими полями; эту шляпу он надевает чуть набекрень, и из-под нее выбиваются длинные «непокорные» (сказала бы леди Уайльд) пряди. «Даже окажись я на необитаемом острове, — заметил он одному из друзей, — я бы каждый день переодевался к ужину». Охотно верится.
У него самая стильная, с изысканным вкусом обставленная квартира в колледже — одна севрская ваза с дежурной лилией чего стоит. Про эту вазу Уайльд шутил: «Мне с каждым днем все труднее ей соответствовать». Теперь — не то что в Тринити — Уайльд не ударяет лицом в грязь даже по части нелюбимого им спорта. Со столь свойственной ему детской увлеченностью следит за игрой в крикет или за марафонским забегом на три мили, хотя сам ни в крикетном матче, ни в марафоне участия не принимает. В холодное время года бесстрашно купается (нередко в одежде — не нарушать же компанию!) в Черуэлле, куда выходят окна его квартиры. Занимается греблей и даже боксом — Уайльд неловок, нескладен, ходит вразвалку, но от природы отличается немалой физической силой.
Однако главным «видом спорта» оставалось, повторимся, острословие. Искусством блестящего собеседника он «угощал» близких друзей, собиравшихся по воскресеньям в его «прерафаэлитской» квартире. Утолив жажду гремучей смесью виски с джином и послушав чтение речитативом старинных баллад под аккомпанемент фортепьяно, на котором играл органист колледжа Уолтер Парретт, друзья переходили к «главному блюду». Закуривали длинные трубки, запасались вином (пробки от бутылок слуга Уайльда открывал в спальне за закрытой дверью: чувствительный хозяин терпеть не мог хлопанья винных пробок) и отправлялись в кабинет, заставленный тангарскими статуэтками и увешанный портретами папы и кардинала Мэннинга, а также фотографиями с картин самого любимого прерафаэлита Эдварда Бёрн-Джонса. Уединившись в кабинете, услаждали себя многочасовой ученой — а чаще неученой — беседой. И хозяин дома, как некогда его отец, а потом Мэхаффи, царил, держал стол, отличался «лица не общим выраженьем», хотя собеседники у него подобрались достойные. Ничто — ни тогда, в Оксфорде, ни в дальнейшем — не давалось ему так легко и не доставляло столько удовольствия, как застолье.