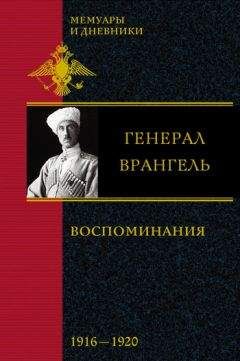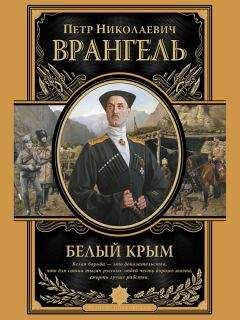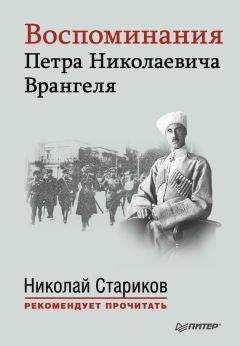С утверждением генерала Крымова командиром 3-го конного корпуса я назначался на должность начальника Уссурийской конной дивизии.
Надежд, возлагаемых генералом Крымовым на казаков, я не разделял. Прожив детство и юность на Дону, проведя Японскую войну в рядах Забайкальского казачьего полка, командуя в настоящую войну казачьим полком, бригадой и дивизией, в состав коих входили полки трех казачьих войск, – я отлично знал казаков. Я считал, что они легко могут стать орудием в руках известных политических казачьих кругов. Свойственное казакам испокон стремление обособиться представляло в настоящую минуту, когда значительная часть армии состояла из неказаков, а казачьи части были вкраплены в целый ряд регулярных дивизий, немалую опасность.
Я считал, что борьба с развалом должна вестись иными путями, не ставкой на какую-либо часть армии, а дружным единением верхов армии и сплоченностью самой армии. Но генерала Крымова трудно было переубедить. Он весь был увлечен новой идеей. Это с места учли некоторые элементы – в полках стало заметно среди офицеров деление на казаков и неказаков. В Нерчинском казачьем полку, где особенно было много офицеров, переведенных из регулярных частей, этот вопрос стал наиболее остро. Несколько офицеров подали рапорта о переводе их в регулярные части.
Я решил откровенно переговорить с генералом Крымовым:
«Я не разделяю, Александр Михайлович, возлагаемой вами надежды на казаков. Дай Бог, чтобы я ошибался. Во всяком случае, раз вы делаете эту ставку, то следует избегать всего, что так или иначе может помешать. Сам я не казак, большую часть службы провел в регулярных частях, едва ли при этих условиях я буду полезен делу как ваш ближайший помощник…»
Генерал Крымов, видимо, понимал меня и не особенно удерживал. Он предложил написать военному министру и начальнику штаба Верховного Главнокомандующего, ходатайствуя о предоставлении мне в командование регулярной дивизии.
Попрощавшись с Приморским драгунским и родным Нерчинским полком, устроившим мне горячие проводы, я 5 апреля, в первый день Пасхи, выехал в Петербург.
Первые шаги нового правительства
Я застал Петербург необыкновенно оживленным. С раннего утра и до поздней ночи улицы города были наполнены толпами народа. Большую часть их составляли воинские чины. Занятия в казармах нигде не велись, и солдаты целый день и большую часть ночи проводили на улицах. Количество красных бантов, утеряв прелесть новизны, по сравнению с первыми днями революции, поуменьшилось, но зато неряшливость и разнузданность как будто еще увеличились. Без оружия, большей частью в расстегнутых шинелях, с папиросой в зубах и карманами, полными семечек, солдаты толпами ходили по тротуару, никому не отдавая чести и толкая прохожих. Щелканье семечек в эти дни стало почему-то непременным занятием «революционного народа», а так как со времени «свобод» улицы почти не убирались, то тротуары и мостовые были сплошь покрыты шелухой. С большинства аптек и вывесок придворных поставщиков, в стремлении уничтожить «ненавистные признаки самодержавия», толпой в первые дни революции были сорваны орлы, и отсутствие на привычных местах вывесок производило впечатление какого-то разгрома.
В Таврическом дворце, городской думе, во всех общественных местах, на площадях и на углах улиц ежедневно во все часы шли митинги. Это была какая-то вакханалия словоизвержения. Казалось, что столетиями молчавший обыватель ныне спешил наговориться досыта, нагнать утерянное время. Сплошь и рядом, в каком-либо ресторане, театре, кинематографе, во время антракта или между двумя музыкальными номерами, какой-нибудь словоохотливый оратор влезал на стул и начинал говорить. Ему отвечал другой, третий, и начинался своеобразный митинг. Страницы прессы сплошь заняты были речами членов Временного Правительства, членов совета рабочих и солдатских депутатов, речами разного рода делегаций. Темы были всегда одни и те же: осуждение старого режима, апология «бескровной революции», провозглашение «продолжения борьбы до победного конца» (до «мира без аннексий и контрибуций» тогда еще не договорились), восхваление «завоеваний революции». Спасать Россию уже не собирались, говорили лишь о спасении «завоеваний революции». Формула эта стала наиболее ходячей, и в невольном стремлении сделать ее более удобоваримой договорились до «спасения революции», получилось что-то безграмотное и бессмысленное.
Борьба между Временным Правительством и советом рабочих и солдатских депутатов продолжалась. Надо отдать справедливость левым элементам, они действовали решительно и определенно шли к намеченной цели. Временное Правительство, в правой его части, наоборот, все время явно избегало решительных действий и слов, искало «компромисса» и подыгрывалось под «революционную демократию»… В то время как «широкая амнистия» покрыла не только бывших революционеров, но и явных агентов германского генерального штаба; в то время как прибывшие во главе с Лениным прямо из Германии большевики, среди бела дня, захватив дом балерины Кшесинской на Каменноостровском проспекте, обращались с балкона к толпе слушателей, призывая их к позорному миру, и Временное Правительство не смело их арестовать, – в Петропавловскую крепость заключались бывшие министры, сановники и другие лица, лишь потому, что они не угодны революционной демократии. В то время как левая печать открыто вела разлагающую армию пропаганду, правые газеты конфисковались и закрывались. В Крыму, по приказанию Временного Правительства, распоряжением полковника Верховского, производились обыски у членов Императорской Фамилии.
Не избегла обыска и престарелая Императрица Мария Феодоровна. Агенты вошли к Ней в спальню и шарили в Ее вещах, невзирая на то, что Императрица находилась в постели. Одновременно с обыском у членов Императорской Семьи подвергся обыскам и ряд частных лиц, проживающих в Ялте, в том числе и моя жена. У нее отобрали мои письма, в которых, конечно, ничего найти не могли.
Те, кто вчера обвинял старое правительство в слабости, произволе и неспособности справиться с разрухой, сегодня, ставши у власти, сами оказались не в силах вести страну. Маниловы или Хлестаковы, они дальше красивых и звучных слов идти были неспособны и, неизбежным ходом событий, должны были уступить власть более действенным силам.
20 апреля впервые произошло выступление красной гвардии – вооруженных заводских рабочих. Правительство не решилось двинуть против них войска. Отдельные столкновения красной гвардии с толпой на углу Михайловской и Невского стоили нескольких жизней. Во время столкновения я находился как раз в «Европейской» гостинице. Услышав первые выстрелы, я вышел на улицу. Толпа в панике бежала к Михайловской площади; нахлестывая лошадей, скакали извозчики. Кучки грязных оборванных фабричных в картузах и мягких шляпах, в большинстве с преступными, озверелыми лицами, вооруженные винтовками, с пением «Интернационала» двигались посреди Невского. В публике кругом слышались негодующие разговоры – ясно было, что в большинстве решительные меры правительства встретили бы только сочувствие.