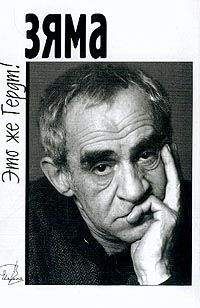Но однажды любопытство побороло стеснительность молодого человека, и он попросил меня почитать стихи. Я очень волновался. Но дело кончилось благополучно, и Зяма объявил мне, что я должен непременно почитать стихи в его студии. У них, видите ли, принято интересоваться смежными областями искусства — поэзией, живописью, музыкой.
Попав впервые в помещение студии, я обратил внимание на то, что все были принаряжены, словно на праздник. А приходилось им, перед тем как начнется «прогон» первого акта, подметать пол, сдвигать столы, образующие сценическую площадку, и многое другое. Будущий народный артист, а тогда электромонтажник, отвечал за свет. Он устанавливал самодельные софиты, сооруженные из жестяных банок с надписью «Монпансье». Ощущение необычной студийной дисциплины возникло у меня через несколько минут. Всё устраивалось тихо, быстро, без суеты. А потом режиссер и драматург сели за специальный столик, пригласив и меня. Несколько слов — и наше знакомство состоялось.
— Начали! — громко сказал режиссер.
О студии Арбузова и Плучека писали много, и о том, как была коллективно создана пьеса «Город на заре», тоже. Я вспомнил об этом потому, что, рассказывая о творчестве народного артиста России З. Гердта, не упомянуть об этом нельзя. Увлеченный работой в студии, влюбленный в студийность, в содружество единомышленников, он работал с упоением. В спектакле, как и большинство его участников, он сам сочинил для себя роль. Его героя звали Веня Альтман. Недоучившийся скрипач, поехавший строить Комсомольск-на-Амуре, потому что понял — хорошего музыканта из него не получится, значит, со скрипкой надо расстаться «решительно и навсегда».
Как он сыграл эту роль? Убежденно и сознательно защищая своего героя от всех упреков, которые могли бы возникнуть в те суровые предвоенные годы по отношению к созданному им образу. Критика тех лет воевала с неудачниками на сцене и в литературе, а ведь неудачники — это чаще всего люди, недовольные собой, а следовательно, ищущие. Гердт всегда считал, что искусство должно защищать именно таких людей. Мало того, он верил, что его герой в решительную минуту может стать очень сильным. И это он написал и сыграл в спектакле «Город на заре».
Естественно, что Зиновий Ефимович был на сцене одновременно и автором, и артистом. Всеми силами руководители студии старались победить в нем автора и оставить только артиста. Может быть, для роли и спектакля это было бы лучше, но для личности, которую мы сегодня называем Зиновий Гердт, одержи они победу, дело обстояло бы весьма печально.
В первую послевоенную зиму мы с Зиновием Ефимовичем, как это бывало и до войны, возвращались домой с работы — он из театра, я из радиокомитета. Так случилось, что я демобилизовался в 1945-м, а он раньше, после тяжелейшего ранения. Подходим к дому, где оба жили. Вдруг Гердт оступился и, тихо сказав «ой», упал на снег. Я стою над ним в шинели без погон, а он лежит на снегу в пижонском пальто лимонного цвета.
— Я сломал ногу, — спокойно говорит Гердт.
А я и так это вижу, и у меня от ужаса перехватило дыхание. Ведь нога-то много раз оперирована и не знаю, сколько ломана. А Гердт говорит очень спокойно, видя, что со мной делается:
— Не волнуйся, поднимись домой и позвони в «Скорую». Спокойно, слышишь, спокойно.
Я позвонил и вернулся. Наш дом был почти за городом. Вокруг — никого. Ни стона я не услышал от своего друга до приезда «Скорой помощи». Потом — носилки, захлопнувшаяся дверь с красным крестом, и всё.
Известно, что доктора, которые лечили Гердта, все до одного очень его любили. Он их смешил и развлекал даже на операционном столе. А про свои скитания по госпиталям артист не любил рассказывать и никогда не надевал боевых наград и орденских планок не носил. Так же как наш общий друг писатель Александр Володин, у которого от войны до сих пор осколок в легком.
Знаете, как Гердт танцевал до войны? Некоторое время это повторялось почти каждый вечер в здании на улице Воровского, где теперь Театр киноактера, а прежде просто крутили кино. Там между сеансами играл джаз. У Гердта была постоянная партнерша. И когда они выходили на блестящий паркет, все пары останавливались и смотрели, как невысокий юноша такое выделывал стилем, который назывался «линдой», что профессионалы завидовали. Потом, когда стихал джаз, раздавались восторженные аплодисменты. А почему? Гердт был удивительно пластичен. Один из его учителей в Арбузовской студии Валентин Плучек, бывший мейерхольдовский артист, постиг все премудрости биомеханики. Кроме того, он танцевал степ, пусть не так, как Фред Астер, но очень лихо. Всё это перешло к Гердту, который всегда умел учиться. С тех давних лет и по сей день.
А куклы в театре Образцова, которые «водил» артист, обретали гердтовскую пластичность, его биомеханику. Сергей Аполлинарьевич Герасимов, наблюдавший Гердта во время работы за ширмой кукольного театра, писал: «Он отдал ей (кукле) всё — жизнь, опыт, иронию, он словно бы становится рабом созданного им феномена. Но в этой кукле живет он сам». Меня в этой цитате больше всего занимает слово «феномен». Судьба артиста сама по себе феноменальна и резко отличается от множества самых счастливых судеб других актеров. На мой взгляд, его феномен, кроме всего, заключается в том, что он всегда как бы автор своих ролей.
Было время, когда Гердт, артист театра С. Образцова, выступал и на эстраде как автор и исполнитель так называемых дружеских шаржей на популярных артистов и поэтов. И вот я помню его, за кулисами разговаривающим с конферансье очередного эстрадного спектакля, в окружении других артистов, ждущих своего выхода. Обычный, без какой-либо актерской аффектации разговор с коллегами. «Сейчас твой номер», — внезапно обрывает Гердта конферансье и, приосанившись, выходит на сцену объявлять. Я наблюдаю за конферансье из-за кулис. На сцене совсем другой человек, чем тот, который секунду назад разговаривал с нами. И голос у него другой, и интонации, «подающие» выступление З. Гердта.
Появляется на сцене Зиновий Ефимович, кивком благодарит конферансье. Ничто не изменилось. На сцену вышел тот же человек, который только что стоял за кулисами. И голос тот же, когда он объясняет то, чем собирается заняться у микрофона, который он между делом прилаживает так, чтобы было удобно работать. «Вот оно, высшее мастерство, — говорит кто-то стоящий рядом со мной, — я так никогда не сумею».
Аплодисменты и смех встречают Зиновия Ефимовича. На глазах у зрителей что-то происходит с артистом. Впечатление такое, будто в душу артиста вселяются признаки объекта пародии, не вытесняя при этом личности пародиста. Наконец, звучит голос. Зритель аплодирует. Нынешние исполнители дружеских шаржей часто добиваются почти абсолютного сходства с голосом объекта пародии. Этим многие из них напоминают скорее имитаторов, звукоподражателей, нежели пародистов. Гердт добивается другого — своеобразной встречи своей актерской индивидуальности с индивидуальностью того, кого он пародировал, — и получалась не имитация, не копия, а нечто третье, дающее возможность взглянуть на творчество пародируемого с новой, гердтовской точки зрения. Эта точка зрения всегда была доброжелательна и в то же время подчеркивала такие особенности, которые заставляли задуматься, хорошо ли, что они есть у того, кого Гердт пародирует. По окончании номера аплодисменты длились обычно очень долго и переходили в то, что мы называем «скандеж». Постоянный аккомпаниатор З. Гердта Мартын Хазизов как-то сказал: «С Гердтом хорошо работать, потому что можно медленно уходить со сцены».