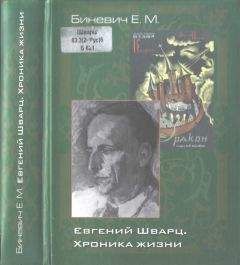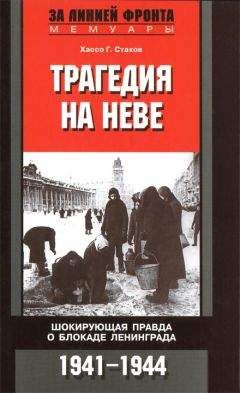Ознакомительная версия.
28 сентября
«Одевайся скорее и идем», — сказал отец, и я, как часто случалось это со мною и в дальнейшем, не понимая, что с этого мгновения моя жизнь переломилась, весело побежал навстречу неведомому будущему. Мама лежала на кровати. Рядом сидела учительница музыки и акушерка Мария Гавриловна Петрожицкая, которая массировала ей живот. И тут же на маминой кровати лежал красный, почти безносый, как показалось мне, крошечный спеленутый ребенок. Это и был мой брат, которого на этих днях встретил я на Невском и со страхом почувствовал, как он утомлен, как постарел, как озабочен. Тогда же, сорок восемь лет назад, он показался мне до отвратительности молодым. Вот он сильно сморщил лоб. Вот открыл рот, и я услышал тот самый крик, который приписал дикой цесарке. И мама ласково стала уговаривать нового сына своего, чтобы он перестал плакать. Несколько дней я был рад и счастлив тому, что в нашем доме произошло такое событие. Помню, как мама, улыбаясь, рассказывала кому‑то: «Женя побежал к Рединым, позвонил в парадное. Его спросили: «Кто там?“. А он закричал: «Открывайте поскорее, новый Шварц народился“. Однако этот новый Шварц заполонил весь дом, и я постепенно стал ощущать, что дело‑то получается неладное. Мама со всей Шелковской, материнской, бесконечной и безумной любовью принялась растить младшего сына. На первых порах он не одному мне казался некрасивым, что мучило бедную маму. Она все надеялась, что люди заметят вместе с нею, как Валя хорош. Доктор Штейнберг жаловался, что видел во сне, как мама бегала за ним с Валей на руках и спрашивала: «Правда ведь, он хорошенький?“ Каждая болезнь брата приводила ее в отчаянье. Было совершенно законно и естественно, что с 6 сентября старого стиля 1902 года мама большую часть своего сердца отдала более беспомощному и маленькому из своих сыновей. Но мне в мои неполные шесть лет понять это было непосильно. Я все приглядывался, все удивлялся и наконец вознегодовал.
29 сентября
И, вознегодовавши, я воскликнул: «Жили — жили — вдруг хлоп! Явился этот…» Эти слова со смехом повторяли и отец и мать много раз. Даже когда я стал совсем взрослым, их вспоминали в семье. Судя по этим словам, я довольно отчетливо понял, что дело в новом Шварце, а не в том, что я стал хуже. Но я так верил взрослым, в особенности матери, что невольное раздражение, с которым иногда она теперь говорила со мною, я стал приписывать своим личным качествам. Если мама говорила худо о наших знакомых, то они, как я неоднократно писал, делались в моих глазах как бы уцененными, бракованными, тускнели. И ни разу я не усомнился в справедливости маминых приговоров. Не усомнился я в них и тогда, когда коснулись они меня самого. Однажды я сидел за калиткой, на земле. Был ясный осенний день. Гимназистки, взрослые уже девушки, шли после уроков домой. Увидев меня, одна из них сказала: «Смотрите, какой хорошенький мальчик! Я бы его нарисовала». Я было обрадовался — и тотчас же вспомнил, что девушка говорит обо мне так ласково только потому, что не знает, какой я теперь неважный человек. И с грубостью, бессмысленной и удивлявшей меня самого, но все чаще и чаще просыпавшейся во мне в те дни, я крикнул вслед девушкам: «Дуры!» По старой привычке я побежал и рассказал все маме, и она побранила меня. Но я не мог объяснить ей, почему я выругал бедных гимназисток. Я, до сих пор окруженный, как футляром, маминой любовью и заботой, стал чувствовать неясно и бессознательно пустоту, страх одиночества и холод. В те дни стали определяться душевные свойства, которые сохранил я до сих пор. Неуверенность в себе и страх одиночества. К этому следует прибавить вытекающее отсюда желание нравиться. Мне страстно хотелось, чтобы я стал нравиться маме, как и в те дни, когда еще не явился «этот». Я всеми силами старался вернуть потерянный рай и, чувствуя, что это не удается бессмысленно грубил, бунтовал и суетился.
2 октября
Я стал много читать. Пустота, образовавшаяся вокруг меня, требовала заполнения. Я не мог, не научился жить один, и если не было книжек, то очень скучал. Очевидно, в течение всей зимы шел во мне какой‑то процесс, требовавший много сил и не осознанный мною. Поэтому я не помню ни внешних событий, ни внутренних. В этот период моей жизни боязнь темноты усилилась. Темнота населилась живыми существами, крайне страшными.
3 октября
Переходный возраст переживаешь не только в тринадцать — четырнадцать лет, но и раньше и позже. Несомненно, что возраст между шестью и семью годами критический, причем у меня этот кризис совпал с рождением брата и отдалением мамы. Сильно развились чувства страха одиночества, мистического страха, ревности, любви; вспыхнуло воображение, а разум отстал, несмотря на чтение запойное и беспорядочное.
…На 1903 год мне выписали журнал «Светлячок», издаваемый Федоровым-Давыдовым. Он меня не слишком обрадовал. Был он тоненький. От номера до номера проходило невыносимо много времени, неделя в те времена казалась бесконечной. А кроме всего я жил сложно, а журнал был прост.
5 октября
Попробую рассказать, как я играю в столовой вечером, один. Нянька с Валей, мама ушла куда‑то в гости. Я надеюсь, что она вернется, пока я еще не лег спать. Керосиновая лампа освещает только стол. По углам полумрак. В зале — полная тьма. В спальне горит ночничок. Очень тихо, но для меня полной тишины не существует. Оттого что я болею малярией и принимаю дважды в день пилюли с хиной, у меня звенит в ушах.
И в этом звоне я могу, если захочу (это похоже на те зрительные представления, которые я вызываю, закрыв глаза), услышать голоса. Вот кто‑то зовет беззвучно, не громче, чем звенит в ушах, растягивая, растягивая: «Же — ее — е-еня!» Темнота, как я открыл недавно, не менее сложна, чем тишина. Она состоит из множества мурашек, которые мерцают, мерцают, движутся. Если в темноте быстро поведешь глазами, то иногда видишь красную искру. Все эти свойства темноты и тишины я ощущаю непрерывно вокруг себя. Тревожит меня дверь в зал. Сядешь к ней лицом — видишь мрак, сядешь спиной — чувствуешь его за плечами. Но освещенный стол отвлекает и утешает меня. Сейчас стол похож на площадь. Дома вокруг площади сделаны из табачных коробок и коробок из‑под гильз. Добриков уже не живет у нас, но я прорезаю окна в домах по его способу. По его же вырезаю я из бумаги сани с полозьями и лошадь к ним, похожую на собаку. Коробки стоят на боку. Крышки подняты и поддерживаются кеглями, как навесы. В домах живут. Пастух из игры «Скотный двор» стоит под навесом на подставке зеленого цвета с цветочками, как бы на траве, что не совсем идет к данному случаю. В другом живет заводной мороженщик с лопнувшей пружиной. Сундук его давно отломился. В третьем живет деревянный дровосек.
Ознакомительная версия.