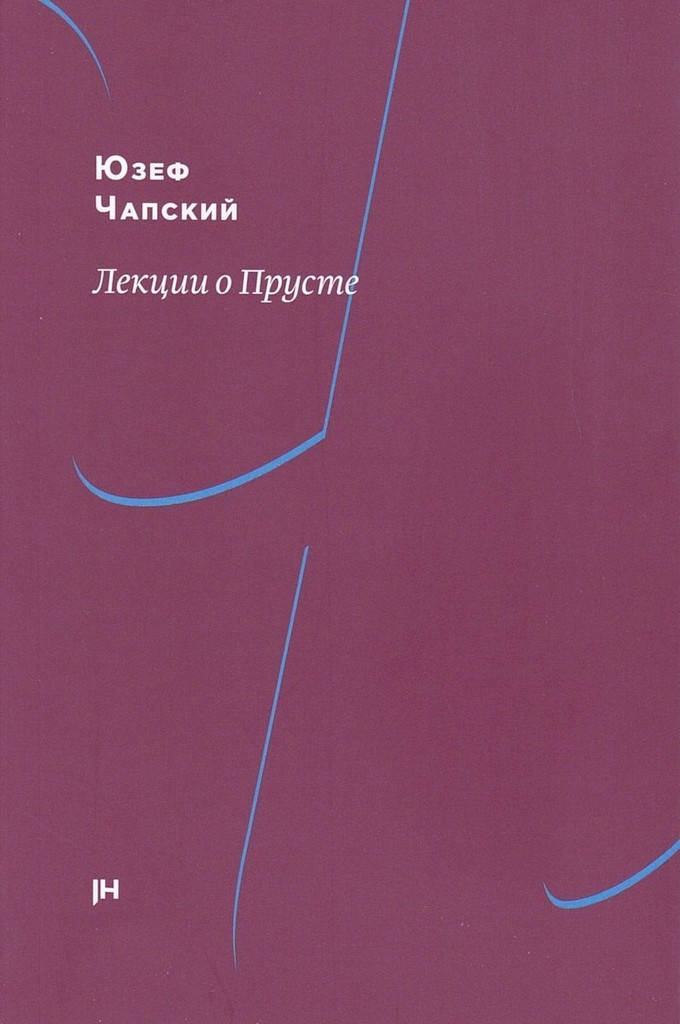и брата герцога Германтского, барона Шарлю, начиная с принцессы Матильды, единственного исторического персонажа, фигурирующего под реальным именем, и заканчивая второстепенными и третьестепенными родственниками и друзьями, вращающимися вокруг солнца Германтов и демонстрирующими все оттенки снобизма, карьеризма и глупости. Снобизм анализируется у Пруста подробнее других характерных черт светского общества. Помимо парижских высших сфер, Пруст рисует нам деревенскую аристократию, более простую и симпатичную, более близкую к реальной жизни, как, например, семейство Камбремер. Старая баронесса — женщина простая, естественная, искренне любящая музыку и гордящаяся тем, что в юности была ученицей Шопена. Ее невестка, приехавшая из Парижа, — типичная носительница артистического снобизма. Не обладая никакими личными способностями к творчеству или художественному восприятию, которые связывали бы ее с искусством, она знает наизусть все общие места последней парижской моды. А Шопен сейчас не в моде. Поэтому робкая свекровь не решается даже говорить о нем. Она почти стыдится признаться, как она его любит, считая себя провинциалкой и ретроградкой, неспособной высказывать категорических и безапелляционных утверждений в духе своей невестки, парижской «интеллектуалки». И как трогательна эта пожилая дама, когда молодой герой романа, приехавший с визитом к Камбремерам, человек, истинно любящий музыку, ловко и шутя разбивает категорические заявления невестки. С какой радостью и одновременно некоторой робостью решается она признаться ему в своей любви к Шопену. В этой сцене мы видим, как герой умеет отличать настоящее от напускного в отношении этих двух женщин к искусству. То же самое с живописью. Он забавляется тем, что ставит зазнайку в неловкие ситуации, потому что молодая дама уверена, что он знает гораздо больше нее и что молодые люди, как он, имеют доступ к самому источнику художественной моды. Зазнайка настаивает на том, что Пуссена не существует, выражая тем самым новейшие натуралистические и антиклассицистские взгляды. Герой отвечает на это, что Дега (несомненный авторитет) утверждает, что Пуссен — один из величайших мастеров французской живописи. «Я пойду в Лувр, как только буду в Париже, мне нужно снова посмотреть на картины и обдумать эту проблему», — отвечает та в растерянности [30]. Пруст деликатно дает нам понять, что эта женщина ничего не смыслит в искусстве, о котором говорит без умолку, что искусство для нее — лишь способ выглядеть интересной перед людьми еще более глупыми, чем она сама, и приобрести право смотреть с презрением на тех, кому искусство действительно не чуждо, но кто не разделяет ее передовых взглядов. Пруста, изображавшего снобизм во всех его формах и вариациях, самого при жизни и даже на основе его произведения называли совершенным снобом. Школьные приятели отвернулись от него в уверенности, что снобизм помрачил рассудок их друга. И даже спустя годы Мися Годебская-Серт, блестящая женщина, подруга всех художников, от Тулуз-Лотрека до Пикассо и сюрреалистов, однажды за обедом в Мёрисе или Ритце в 1914 или 1915 году спросила Пруста, не сноб ли он, и на следующий день с удивлением получила огромное письмо (конечно же, потерянное ею впоследствии), где Пруст на восьми страницах, исписанных плотным почерком, объяснял, насколько поверхностным был ее вопрос. Сколько бы мы отдали сейчас, чтобы иметь возможность прочесть это письмо, брошенное когда-то в корзину для бумаг! Позиция Пруста в жизни и в его произведении настолько многогранна, что называть ее снобизмом — ребячество. Сначала — влечение писателя к герцогине Германтской на фоне средневековых витражей церкви в Комбре, затем любовь к той же герцогине, ослепительное сияние мира, который он для себя открывает, и наконец — самые горькие наблюдения, понимание и осознание всех их недостатков, мелочности, холодности, бессилия и глупости — все это есть в книгах Пруста. С какой тонкостью он улавливает, угадывает способности молодого племянника Германтов, военного, влюбленного в музыку и литературу, благородного в своем характере и во всех своих порывах юноши, который героически погибает на войне во время атаки. И в то же время с каким чувством юмора показывает он нам невежество и глуп ость светских аристократов всех мастей, добавляя разочарованно в одном из томов: «Он был бы обаятелен, если бы не был так глуп». Впрочем, взгляд Пруста-писателя на высший свет столь же отстранен, я бы сказал научно-объективен, как и на кухарку Франсуазу, на клан докторов или на собственную бабушку. Кухню в Комбре, где царила Франсуаза, он сравнивает с двором Людовика XIV, Короля-солнца, и с интригами при нем; говоря об аристократии, он обнаруживает обратные сходства. Пруст описывает встречу своего героя во дворе дома с хозяином, герцогом Германтским, который во время разговора не может удержаться, чтобы не смахнуть с бархатного воротника пальто собеседника приставших ворсинок несколькими чрезвычайно легкими и подобострастно вежливыми движениями руки. «Только у лакеев из богатых домов и представителей аристократической знати, — утверждает Пруст, — встречаются такие рефлексы по этому поводу» [31]. Пруст не относит своей теории сходств исключительно на счет знатного происхождения аристократов и роли, которую они играли в Версале. Нужно отметить еще одну важную тему «В поисках…». Это тема физической любви, самые потаенные и сумрачные стороны которой Пруст исследует. Все аномалии и перверсии рассматриваются им с аналитической дистанции, без приукрашивания или очернения. Его великий предшественник, Бальзак, уже осмеливался коснуться этих вопросов, впрочем, гораздо более сдержанно, в «Вотрене» и «Девушке с золотыми глазами». За двадцать лет послевоенной литературы мы настолько к ним привыкли, что нас порой даже утомляют и раздражают книги, повествующие о темах из области сексуальности в цинической или эксгибиционистской манере (Пруст — сама стеснительность, если сравнивать его с некоторыми фрагментами Селина). Поэтому нам сложно понять, насколько определенные страницы «В сторону Свана», затрагивающие лесбийскую любовь дочери Вентейля и увидевшие свет еще до 1914 года, или история великосветского барона де Шарлю, положение которого рушится из-за скандала в духе Уайльда и которого мы видим в парижских притонах впавшим в крайние мазохистские отклонения, — насколько эти страницы, продуманные и составленные частично еще до войны 1914 года, были актом смелости. Пруст освещает своим аналитическим фонарем самые мрачные закоулки человеческой души, которые большинство людей предпочитают игнорировать. В этой сфере, как и в исследовании аристократии, или сыновней любви, или тайных механизмов художественного творчества, мы узнаем Пруста с его восхитительной ясностью и аналитически тщательным и скрупулезным подходом, невиданным ранее.
Я хотел бы сделать несколько выводов еще более показательных, чем остальные. В своей выдающейся форме Пруст преподносит нам мир идей, цельное мировоззрение, которое, пробуждая в читателе все его умственные и чувственные способности, требует от него пересмотра заново всей его системы ценностей. Уточню: как я