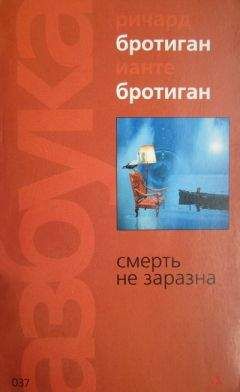Переехав в Калифорнию, отец одевался, как одеваются на Северо-Западе, и был похож, как теперь говорят, на «гранджера». Погода на тамошнем побережье Тихого океана меняется так часто, что, выходя из дому, надевают футболку, сверху рубашку с длинным рукавом, а сверху еще какой-нибудь свитер и плащ.
Кожа у отца была очень белая, никакой загар к ней не приставал. Никогда не видела его обгоревшим: он боялся солнца. Он не умел плавать или, во всяком случае, так говорил. Однажды мы с ним пришли на пруд, где он влез в холодную воду и стал барахтаться возле берега, то и дело вставая на дно ногами, с воплями, что вот же он плывет по-настоящему, и я была потрясена. Я почувствовала себя немного обманутой, потому что раньше он всегда клялся, будто плавает как топор, а тут и впрямь ему удавалось держаться на воде.
Как-то он признался мне, что когда приезжает в Ки-Уэст, то по ночам ходит купаться. Все его друзья-мужчины были очень загорелые и ходили в «топсайдерах» без носков. Отец носки надевал всегда.
Чтобы не обгореть, он выходил из дому при полном параде, включая шляпу, защищавшую лицо от солнца. В таком виде он мог отправиться на коралловые рифы на рыбалку на тарпана. Я же, унаследовавшая кожу от матери, могла безнаказанно подолгу просиживать у бассейна в прелестном открытом купальничке, который мне подарила Бекки, жена Тома Макгуэйна.[10] Я была робкая девочка и потому так и не решилась сказать ей, как он мне нравился.
Отходила я от бассейна, только если меня вдруг звали на пляж, и тогда я ныряла в соленые волны теплого океана.
— Берегись барракуды, — говорил отец.
Я ныряла с открытыми глазами в надежде хоть раз ее увидеть, но мне ни разу не повезло. Я попыталась уговорить его пустить меня на рыбалку на тарпана, но отец сказал, что четырнадцатилетних девочек туда брать запрещено. В тот же день из-за огорчения и перегрева на тропическом солнце я покрылась потницей.
Отец, чтобы облегчить мои страдания, повел меня в кинотеатр, где был кондиционер и где мы просидели чуть ли не весь день. Фильм был испанский и шел без субтитров. Мы смотрели его до тех пор, пока не закончились деньги, а потом вышли из тихого прохладного зала и почти в темноте отправились домой по спокойным улочкам Ки-Уэста. К нашему возвращению в доме уже горел свет и было полно людей — приехали Том, его жена Бекки и группа французских документалистов, которых привез в Америку Ги де ла Вальден.[11] На ужин мы все съели по огромной тарелке креветок. Уснула я под громкие голоса и взрывы смеха.
— Хочу выбросить весь этот хлам из подвала! — крикнул оттуда мой муж тем тоном, который у него означает: «Я занят уборкой, и не мешайте».
— Не выбрасывай пальто, — попросила я. — Я еще не могу с ними расстаться.
Теперь они оба прожариваются на солнце. Однажды, когда Пол жил в Нью-Йорке, ему пришлось походить в тяжелом шерстяном пальто своего деда. Мне тоже хотелось бы, чтобы отцовские вещи кому-нибудь пригодились, но в глубине души мне кажется, что надевать их нельзя. Неизвестно почему, но мне кажется, будто самоубийство заразно, и если кто-нибудь наденет пальто, то он заразится смертью. Умом я понимаю, что это невозможно, но у меня до сих пор перед глазами стоят кровавые пятна. Я стараюсь думать: пальто — это просто пальто. Одежда не виновата в том, что отец в минуту отчаяния решил свести счеты с жизнью.
Наверное, и я в конце концов сумею вывести пятна. Пальто вполне еще могут повисеть в подвале лет шесть, пока муж опять не займется уборкой. И наверное, тогда я ему опять крикну, чтобы он их не выбрасывал. Он их вывесит на перилах, но еще через шесть лет я уже, может быть, смогу и с ними что-нибудь сделать.
На Гири-стрит печатная машинка «Селектрик» фирмы «Ай-Би-Эм» стояла в кабинете на большом темном дубовом столе, покрытом прозрачным пластиком. Рядом, вдоль коробок с корректировочными бумажками и рукописей, лежали остро заточенные, выложенные в аккуратную линию шестигранные карандаши. Никогда в жизни отец не просил меня не касаться его бумаг: они, много значившие для отца, мне казались важнее всего на свете.
— Можно попечатать? — спросила я как-то раз, когда мне было шесть лет.
Обычно отец отвечал: «Не сейчас», но в тот раз усадил меня за стол, вложил в машинку два белых листка, повернулся ко мне и наставительным тоном сказал:
— Если не вложить второй лист, можно испортить каретку. — И тут же нетерпеливо добавил: — Нет, нет. По одной клавише. Не колоти. Осторожно. Вот так.
Он оставил меня одну. В комнате стало тихо — кроме гудения машинки, не было ни звука. Тишина долго мешала мне и немного даже напугала. Ноги у меня не доставали до пола, и казалось, будто я в этой тишине плыву, но потом я склонилась к столу и принялась печатать, осторожно нажимая на клавиши и каждый раз вздрагивая от стука молоточков. Я напечатала свое имя, потом еще несколько слов, а потом села, не зная, что еще делать с пустым листком.
Я чувствовала, что эта машинка была входом в тот, другой мир, куда время от времени исчезал мой отец. Я не раз разглядывала кабинет — высокий потолок, большую люстру над головой, бесконечные ряды книг, драное синее покрывало вместо шторы на высоком грязном окне, закрывавшее от меня улицу, — и пыталась найти во всем этом ключ, который позволил бы и мне попасть в то загадочное измерение. Отец вел себя в кабинете, будто это была самая обыкновенная комната, но мне не верилось, я ведь точно знала, что это не так. Я подолгу наблюдала за ним за работой, ожидая, когда наконец он ненароком выдаст тайну комнаты, но отец просто сидел и печатал. Иногда я открывала дверцы небольшого платяного шкафа, где хранился его немногочисленный гардероб, чтобы проверить, не уходит ли он через шкаф. В шкафу была обыкновенная задняя стенка.
Так что воротами в другой мир была явно лишь эта гудевшая электрическая машинка. Я была уверена: если раскрыть ее тайну, я тоже туда попаду. Не год и не два я пыталась найти среди клавиш ту волшебную, которая и была ключом.
Разгадать эту тайну мне помогла тонкая черная тетрадь, подаренная учительницей по имени Элен Сикэт. Элен была добрая, и отец пригласил ее ко мне заниматься английским языком, потому что я в одиннадцать лет писала с ошибками. После занятий с Элен ошибки у меня, как были, так и остались, но зато она мне подарила тетрадь, куда я переписывала набело задания, и в результате начала свободно писать. А отец тогда мне, чтобы исправился почерк, купил настоящую авторучку, писать ею было легко и я впервые обнаружила, как в словах, записанных на бумаге, остается мой голос. Потрясенная своим открытием, я продолжала ставить ошибки, вполне довольная жизнью.