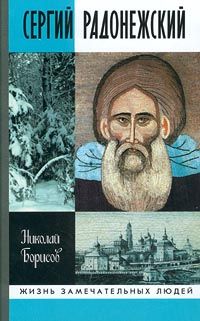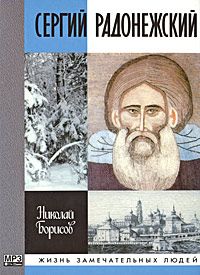Я встречался со Шлиттом дважды: в гостях у нашего соотечественника Гаспара Эверфельда и в доме известного московского торговца Афанасия Твердохлебова.
Шлитт хвастал, что был принят самим великим князем, и пытался убедить нас, будто князь Иван весьма склонен покориться латинской церкви.
Шлитт выводит такое заключение из слов князя Ивана, будто бы сказавшего ему, что латиняне во всем превзошли Русь и что в этом — перст господень.
Гаспар Эверфельд подтверждает мнение Шлитта о большом интересе князя Ивана и его приближенных, в частности Адашева, ко всему иноземному. Между прочим, Адашев посылает своего родственника со Шлиттом обучаться в имперских городах.
О, если бы Шлитт и Эверфельд были правы! Но я бы не торопился обольщаться, ваша милость. Отец Ивана, покойный князь Василий, тоже проявлял интерес и к нашей вере и к нашим мастерам. Но мастеров он принял, искусство их здесь вызнали, а истинную веру исповедовать не хотят.
А вот еще одна новость. В Казани недавно умер, спьяна расшибив голову о кадку, царь Сафа-Гирей. Ему наследовал малолетний сын Утемиш-Гирей, опекаемый матерью-царицей Суюн-бекой. Но что значит правление женщины?! В Москве же сидит извечный враг Сафа-Гирея, изгнанный им царь Шиг-Алей. Последний готов на все, чтобы только вернуть казанский престол. Поддержат ли его московиты, судить не берусь. Думаю, что нет, так как с них хватает и внутренних неустройств.
Кстати, как курьез, могу рассказать вам одну забавную историю.
У Афанасия Твердохлебова есть дальний родственник, некий Иван Федоров, до недавнего времени служивший дьяконом в одной из кремлевских церквей. Во время пожара у него умерла жена, и, став вдовцом, он оказался вынужденным покинуть свою хлебную должность. Московские законы запрещают священнослужителям безбрачие, как, впрочем, запрещают и двоеженство. Сейчас этот Федоров живет тем, что переписывает книги, и только. Это не очень доходно, если не имеешь какого-либо места: много ли может переписать человек? Одну-две книги в год! Впрочем, речь не о том. Твердохлебов и другие московиты почитают Федорова, как грамотного и образованного человека. Гаспар же Эверфельд, смеясь, рассказывал, как поразился этот «грамотный и образованный» дьякон, увидев книгу, напечатанную способом великого Иоганна Гутенберга. Он никак не мог понять, как это можно печатать книги, а не переписывать! Вообразите, ваша милость, тупую физиономию пораженного москвитянина и судите, каковы же его соотечественники, не умеющие даже того, что умеет он, то есть не умеющие даже писать!
Мне кажется, что я слышу смех вашей милости и чувствую себя счастливым, так как для меня нет высшей награды, чем ваше благорасположение.
Чего стоит слуга, если он не радуется веселью своего господина?
Я же готов и впредь подвергать себя лишениям жизни в варварской стране, где каждое неосторожное слово может привести на плаху, лишь бы оправдать ваше доверие и знать, что не буду оставлен вашими милостями.
Я очень сильно издержался, ваша милость. Тут все очень дорого, и, кроме того, московиты очень любят подарки. Если хочешь быть приглашаем в гости в нужные дома, не скупись. Поэтому я прошу вас с первой же оказией прислать мне двести талеров. Иначе я буду просто лишен возможности сообщать вам подробные сведения о здешних делах.
Припадаю к вашим стопам, молю бога даровать вам долгих и счастливых лет.
Еще раз прошу выслать двести, а лучше — триста талеров.
Ваш преданнейший слуга…»
Первое время Иван Федоров ютился у Твердохлебовых. Им повезло: уцелели и дом и службы. Михаил Твердохлебов вызвался тогда же быть крестным отцом младенца. Нарекли сына Ирины так же, как самого Федорова, — Иваном. В крестные позвали Ольгу, жену Маруши Нефедьева. Дом у Маруши сгорел, но оставалась подмосковная земля, добрых полчети. Маруша сразу взялся ставить новую избу, просторнее прежней. Строились и другие москвичи.
— И тебе бы избу схлопотать! — наставлял Афанасий Твердохлебов. — В дьяконах тебе не служить, ну и стройся на посаде.
Из чего строиться-то? — спрашивал Иван Федоров. Да и к чему теперь все… Теперь мне постричься надо.
Голос у него дрожал.
— Митрополит-то гонит в монастырь? Нет? Ну и негоже так рассуждать! Горю поддаваться — господа гневить. И опять же сын у тебя. Для него трудись… К митрополиту ступай, проси на обзаведение, даст.
Иван Федоров пошел к митрополиту. Тот уже слышал о беде дьякона и, повздыхав, велел своим людям помочь просителю.
— Где живешь ныне? — спросил митрополит.
— У Твердохлебовых, владыка.
— Так… В монахи тебе надо постричься, знаешь?
— Знаю, владыка.
— Ну, ин пока мне нужен… Ступай. Позову.
Избу начали ставить в Зарядье, где подешевле откупили землю у погоревшего рыбника. К зиме Федоров въехал в новое жилье с сыном и кормившей Ивана молодухой Марфой, лишившейся на пожаре мужа и младенца.
Сердобольные бабы, закрывшие глаза Ирине, сыскали Марфу тут же среди погорельцев:
— Вот кормилица сыну твоему!
Афанасий Твердохлебов, суча бороду, осторожно посоветовал пристроить Марфу где-нито по соседству.
— Баба она молодая, гожая… Разговор пойдет. А захочешь сына повидать, забежишь.
Но Федоров не хотел, чтобы сын рос у чужих людей, и взял Марфу в свою избу.
— Греховных мыслен у меня нет, — ответил он старому купцу. — А Марфа, как выкормит Ивана, вольна к себе.
— Ну, гляди… — вздохнул Афанасий.
Митрополитовых денег не хватило и на плотников, а пришлось еще и одежду справлять, утварь покупать, да на харчи каждый день требовалось.
Чтобы перебиться, сводить концы с концами, вставал Иван Федоров затемно и, наскоро похлебав вчерашних щей, садился к оконцу, раскладывал бумагу и писал, писал, писал…
От прилежного писания ломило в висках, сводило руку, а спина немела, становилась как чужая.
Но то ли от усталости, то ли оттого, что вскакивал к плачущему сынишке, если Марфа уходила по воду или в ряды, но часто, проглядывая написанное, с горечью и досадой видел он пропущенные ошибки.
Испытывал Иван Федоров иной раз искушение снести листы как есть. Авось никто не заметит промахов. Но претил обман, не мог допустить, чтобы из-за его корысти искажалось божье слово. Даже подчищать строки, как Маруша советовал, тошно было, хоть и подчищал порою. Всегда любил он ряд и красоту, хотел, чтобы книга радовала чтеца каждой буквой.
Росло в Иване Федорове недовольство собою. Сделался мрачным, раздражительным. Раньше, бывало, пишешь и размышляешь, стараешься постичь кажущееся непонятным, а теперь только пером скрипишь…