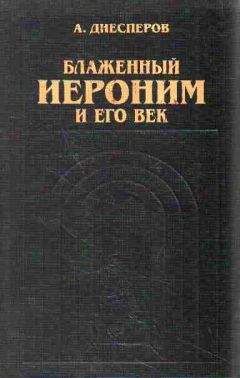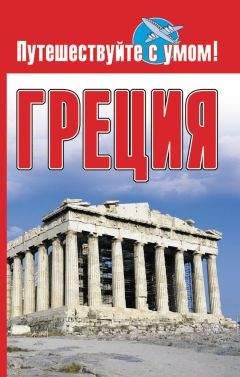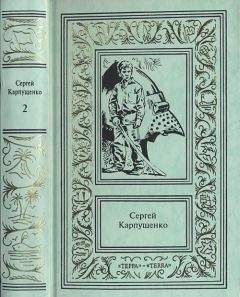Воинственные сердца восприняли кротость христианскую"• Последние слова интересны еще косвенным свидетельством о чисто цивилизаторской роли христианства: оно всюду несло с собою письменность для принимавших его народов.
Успеху христианства способствовала, между прочим, своеобразная, несколько военная тактика иных духовных вождей. Со времени Феодосия Великого началось усиленное разрушение памятников язычества (и древней культуры — заметим кстати). Предпринимались целые благочестивые походы с целью истребления идолопоклоннической скверны, и самый выдающийся подвиг вандализма, по странной случайности, выпал на долю друга Иеронима. Мы имеем в виду Феофила, епископа Александрийского, разрушившего знаменитый храм Сераписа. Вместе с ним погибла и единственная по обширности Александрийская библиотека — драгоценнейшее книгохранилище древности. "Мы видели книжные шкафы, которые, после разграбления книг стоят пустыми и напоминают о наших временах и нравах",— писал Орозий. Вооруженная сила употреблялась не только против неодушевленных предметов; приходилось сражаться не с одними идолами, но и с еретиками. Тот же Феофил известен деятельным и энергичным истреблением оригенистов в Нитрийской пустыне, о чем он и сообщал Иерониму скромно, но с достаточной выразительностью: "Некоторые негодные и мятежные люди, жаждавшие посвятить и основать в монастырях Нитрии ересь Оригенову, подрезаны серпом пророческим. Потому что вспомнили мы слова апостола, говорящего: Обличай их сурово".
После всего сказанного вернемся к христианству самого Иеронима. Как мы уже говорили, он, по окончании образования, принял крещение и отправился в путешествие по северу-западу Европы. Возвращаясь оттуда, он видел в Верцеллах (на Лигурийском берегу) чудо. И очень характерно для этого святого, которому суждено было стать певцом женской добродетели, что и это событие, вызвавшее его первый литературный труд, произошло с женщиной. Невинно осужденная в прелюбодеянии, она должна была подвергнуться казни, но меч сгибался в руках палача от ударов, почти не нанося ей вреда. Иероним витиевато и приподнято составил повествование об этом происшествии в форме письма к другу Иннокентию, и это как раз письмо, возможно, было причиной вскоре последовавшего отъезда, почти бегства его из Италии на Восток, так как в рассказе затронут был в непочтительных выражениях консул — виновник казни. По крайней мере, таково мнение Stilting'a, Zockler'a и некоторых других исследователей. Возможно также, что до известной степени причиной отъезда было желание пылкого новообращенного загладить прошлые грехи и уйти от соблазнов метрополии, в частности, столицы; Восток же (крайней целью поездки куда по первоначальному плану являлся Иерусалим) естественно должен был остановить на себе внимание будущего подвижника. Некоторое указание на такое добровольное решение можно видеть в словах Иеронима, обращенных к папе Дамазу: "И не думай, что это был чей-нибудь приговор относительно меня (жить в пустыне. — А. Д.), я сам решил сделать то, чего заслуживал". О самом путешествии имеются свидетельства в переписке Иеронима с Руфином: "После того, когда от сердца твоего оторвал меня внезапный вихрь, когда прилепившегося к тебе любовью отторгнула жестокая разлука —
Вот надо мною дожди и бурное море повсюду, Море и свод небес...
Наконец, когда Фракия, Понт, Вифиния, весь путь по Галатии и Каппадокии и земля Киликийская истомили меня палящим зноем, Сирия, наконец, явилась мне как бы надежнейшая гавань для потерпевшего крушение. Здесь я испытал всякого рода болезни, какие только могут быть...". Действительно, в Антиохии Иероним опасно заболел, и как раз на время этого недуга падает то видение, которое описано выше в связи с изложением литературных вкусов Иеронима. Около 374 года, покинув Антиохию, он удалился в пустыню Халкидскую, эту "сирийскую Фиваиду", и здесь в течение четырех приблизительно лет посвятил себя "умному деланию" и христианской аскезе. Нам еще придется в будущем коснуться в другой связи тех душевных мук и той борьбы, которыми была полна эта полоса жизни Иеронима, и понять которые тем легче, что подвижник был в цвет молодости, с еще неугасшим интересом бытия и не-изгладившимися воспоминаниями разнообразного прошлого. Но не следует думать, что в данном случае мы встречаемся с довольно обычным "спасением души" воздержанием, бдениями и молитвами, — конечно, было и это, Иероним страстно предавался умерщвлению плоти, но не одним самобичеванием и слезами, как и можно ожидать, наполнялись досуги такого анахорета, как этот недавний воспитанник ораторских школ. Литературные дарования и научные склонности не могли быть заглушены никаким удалением от мира.
Над вольной мыслью Богу неугодны Насилие и гнет — это было ясно и для Иеронима, как для Иоанна Цамаскина, и он с увлечением отдавался умственному труду в тех его видах, которые всего ближе отвечали его таланту. Мы могли бы с большим основанием сказать "талантам", потому что наряду с литератором в Иерониме жил также и ученый — строгий и самоотверженный. Так как именно этой последней стороне его духовного существа суждено было особенно проявиться в указанный период его жизни, то мы и позволим себе немного остановиться на ней.
Ученый в Иерониме сказывался во всем, и между прочим в той крайней осторожности и вдумчивости, с какой он при случае умел подходить к большим и трудным темам. Любопытно также встречать в его трудах пренебрежение (иногда несколько высокомерное) ко всякому верхоглядству, торопливости выводов, напускному глубокомыслию лжеученых. Естественно, что он же особенно должен был стоять за необходимость строгой школы для всякого дела, тем более — для занятия богословскими вопросами.
"Умалчиваю о грамматиках, риторах, философах, геометрах, диалектиках, музыкантах, астрологах, медиках, знание коих является наиполезнейшим для смертных... Перехожу к искусствам прикладным, которые осуществляются уже не столько словом, сколько рукою. Земледельцы, каменщики, кузнецы, резчики по дереву и металлу, шерстобиты и другие, которые изготовляют различную утварь и всякие мелочи, не могут делаться без наставника тем, чем хотели бы.
...снадобий знанье Нам обещают врачи, о ремеслах заботится мастер, только искусство писаний таково, что все его присвояют себе:
Пишут — равно и ученый и неуч — сегодня поэмы. И болтунья старуха, полоумный старик, безграмотный враль — все имеют притязание на это искусство, искажают его и учат ему прежде, чем самим научиться".