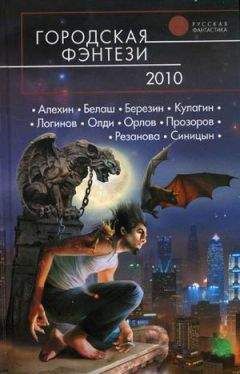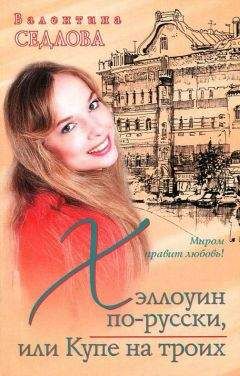Также вполголоса и будто нехотя второй подтягивает:
Любил всей душой я девчонку…
Никто не служил на почте и, наверно, никто не видал ямщиков, но песня берет за сердце и тех, кто ее начал, и тех, кто тихо один за другим втягивается в комнату и, стараясь не мешать, пристраивается на краешке стула, на койке, на полу… Теперь уже много голосов, страдая и сочувствуя, ведут рассказ о большой любви:
Куда ни поеду, куда ни пойду,
Все к милой сверну на мину-у-ут-ку…
Лица у поющих размягченные, блики живого огня высвечивают блестящие глаза и полоски влажных зубов, и плавные движения чьих-то чутких рук, помогающих песне… Песня всех соединила — и, честное слово, все стали красивыми.
Доходит очередь до «Лучинушки». Ее щемяще-нежная и горестная мелодия погружает нас в такие глубины чувств, куда мы еще и не заглядывали, несколько минут назад мы и не поняли бы, что можно так чувствовать, и несколько минут спустя опять не поймем, но в песне воспринимаем и проживаем все:
Догорай, гори, моя лучина,
Догорю с то-бо-ой и я…
Как происходит переход от этой обреченности горя к безудержной веселости студенческой песни про неразумного Веверлея, не умевшего плавать? Только отзвучала «Лучинушка», еще и не заговорить, не улыбнуться, но кто-то занялся печуркой, поворошил угли, подкинул чурбачков, а еще кто-то тенорком доверительно сообщил:
Низкие мужские голоса тотчас подтвердили — Веверлей.
И снова низкие голоса подтвердили — Доротею.
А затем все голоса вместе, мужские и женские, повели рассказ, придавая ему драматическую, даже трагическую окраску:
На помощь пару, пару, пару пузырей-рей-рей
Берет он, плавать не умея!
Как тут хороша была Лелька с ее старательным звонким голоском и деревенской, от сердца идущей выразительностью пения, грустна ли песня или шутлива — все равно, выразительностью напитан каждый звук, каждое слово! И как оттеняли Лелькину звонкость мужские, басовито подтверждающие голоса:
Но злой судьбы коварный рок —
коварный рок!
Хотел нырнуть вниз голово-ою,
Но голова —
ва! ва! —
тяжеле ног —
ног! ног!
Она осталась под водою!
Случалось, старые студенты заводили красивую студенческую песню «Гаудеамус игитур», на латыни, никто латыни не знал, даже «старики», что когда-то вызубрили текст. Но было известно, что песня призывает веселиться и радоваться жизни, пока молоды, — почему же не спеть такой приятный призыв! Впрочем, допеть никогда не удавалось — никто не помнил всех слов до конца.
Потом запевали другую студенческую песню — «Быстры, как волны, дни нашей жизни». Слова в ней, в общем-то, были грустные, почти безнадежные — «что час, то к могиле короче наш путь», «кто знает, что с нами случится впереди»… Но кто же в молодости ощущает близость могилы и думает, что случиться может плохое? И основная протяжная, даже заунывная мелодия перебивалась бойким речитативом: «Посуди, посуди, что там будет впереди!» — и песня вдребезги разлеталась на десяток озорных припевок, где были и «стаканчики граненые», и неведомый «веречун», и Сергий-поп, Сергий-дьякон, а с ними и дьячок, и многое другое…
Тут мы все превращались в ребят: целиком отдаваясь озорным словам и ритмам, мы выкрикивали припевки во весь голос, кто как сумеет громче и задорней, глаза сверкали, улыбки тоже сверкали, от уха до уха, ноги отбивали такт, руки вертелись в такт — весело было и забирало целиком, оттесняя любые огорчения и неясности жизни!..
Раз начавшись, веселье захватывало всех без удержу. Накричавшись вволю в припевках, заводили смешную, залихватскую «Там, где Крюков-канал и Фонтанка-река», в этой песне тоже было где разгуляться…
Так они и запомнились, эти вечера у печурки, как «самые-самые». Голоса у меня не было и слух не ахти, но в компании это забывалось, ценили не голос, а уменье полностью отдаться песне.
Когда пели о любви (а все песни о любви, как назло, о несчастливой), я ощущала где-то рядом, недопущенными, грустные и недоуменные мысли о Пальке, потому что все у нас запуталось, я не могла не чувствовать все увеличивающееся расстояние между нами и не могла понять, почему так, когда мы оба этого не хотим… Но песня сменялась другою, веселой, и я забывала о Пальке и замечала Шуркин гипнотизирующий взгляд, насмешливо говорила себе: гипнотизирует! — но ничего не имела против: игра увлекала новизной, а было мне без малого семнадцать лет.
Палька СоколовОднажды в Москве, поднимаясь по лестнице нашего литераторского дома, я остановилась перед мраморной доской с именами писателей, погибших на фронтах Отечественной войны, и содрогнулась, увидев такое родное имя — Соколов Павел Илларионович. Страшно. От теплого, живого, ни на кого не похожего — лишь строка позолоченных букв на холодном камне.
То, что он пробовал силы в карельской литературе и какое-то время был секретарем писательской организации в Петрозаводске, это как-то прошло мимо меня, а вот о гибели его мне сообщили: он был комиссаром одного из партизанских отрядов в Брянских лесах и погиб в последнем бою, перед встречей отряда с наступающими частями Советской Армии. Было Соколову тогда чуть больше сорока лет.
Если пройти по канве его короткой жизни, обозначится прямой и достойный путь человека, смолоду ставшего коммунистом: четырнадцатилетний комиссар в Олонецком уезде, потом комсомольский активист, солдат и политработник на войне с белофиннами, снова комсомольский активист, журналист и редактор, затем руководитель ТРАМа — Театра рабочей молодежи — сперва в Ленинграде, потом в Москве… Мобилизованный партией на работу в деревню — начальник политотдела МТС где-то в Сибири… Опять журналист, литератор… А с первого дня войны — фронт, бои в окружении, партизанский отряд, снова бои… и смерть в бою.
Такова главная линия. Четкая, прочная. Но по канве извилистыми, своевольными узорами разбросаны этапы трудной, порой мучительной душевной жизни очень самобытного человека — с вечными поисками, ошибками, странностями, сомнениями и откровениями. Одною из странностей этой жизни было то, что она все же не выхлестывала за пределы канвы, не отступала от крепко простеганной главной линии, — в конечном счете Павел умел подчинять страсти сознанию и выполнял свой долг, не балуя себя поблажками.