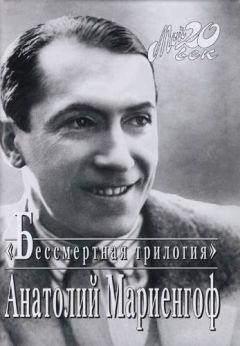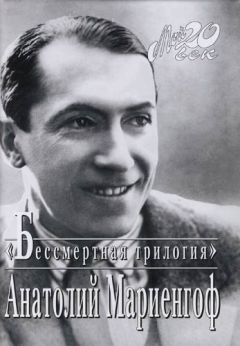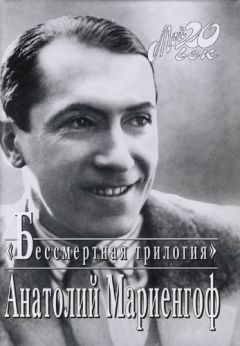— Как ты думаешь, можно ее сейчас прочесть вслух?
— Да ты что, Длинный, совсем опупел? — И добавила довольно строго: — Пора уж немного остепениться.
Так погибла и эта моя эпиграмма.
* * *
В город к матери приехала дочка, годиков так двенадцати. Очень ей понравилось: фонари, автобусы, витрины, кино… Через две недели мать отправила девочку обратно — «хату беречь».
Та вернулась и через несколько дней сожгла всю деревню — чтобы нечего было беречь и жить в городе.
* * *
В 1918 году золотоливрейный старый швейцар в изразцовой уборной Большого театра, презрительно кивая на нового зрителя, говорил мне:
— Да какие ж это люди — мочатся и рук не моют!
Доходы швейцара тогда очень упали.
* * *
Ночь. Я прохожу по жесткому вагону. В три яруса, используя и полки для чемоданов, спят люди — старые и молодые, мужчины и женщины. Почесываются, похрапывают, посапывают. Меня поражает, что почти все спят с полуоткрытыми ртами. По напряженным складкам на лбах и между бровей я вижу, что во сне они о чем-то думают. Но не головами, а позвоночниками. Поэтому лица у них неприятные, полуидиотские. Некоторые пускают слюну и во сне улыбаются. Тоже как полуидиоты. И тут я вспоминаю прекрасные лица покойников, с опущенными веками цвета церковного воска. Лица, лишенные всякой мысли. Чистая форма. Как она бывает благородна! Как хороша! Эта чистая форма, не потревоженная мыслями головного и спинного мозга.
* * *
У Таировых за столом затеяли разговор о демократии. В нашем понимании и в американском.
Насмешливо почесав свои рыжие бакенбарды, Карл Радек сказал:
— Конечно, и у нас могут быть две партии… одна у власти, другая в тюрьме.
И в столовой стало тихо. Никому больше не захотелось разговаривать о демократии.
Радек мне понравился.
* * *
Куртизанка сказала Жан-Жаку Руссо, принявшемуся изучать ее тело:
— Оставь женщин и займись математикой.
А Рембо овладел несколькими туземными диалектами самым приятным способом — он завел нечто вроде гарема из женщин, принадлежащих различным племенам.
— Я приобрел целую серию словарей, переплетенных в кожу, — говорил он.
Француз!
* * *
Умнейший из наших философов Григорий Саввич Сковорода говорил:
«Пес бережет стадо день и ночь по врожденной любви и терзает волка по врожденной склонности. Ни конь, ни свинья не сделают сего, понеже не имеют природы к тому».
А человек?… У каждого, разумеется, своя врожденная склонность. Однако, во вред жизни, наши политики упрямо пытаются сделать из коня свинью и собаку из волка, которому по природе своей надлежит драть овец. А все потому, что людей считают и называют «кадрами».
Сковорода учил, что «нужное не трудно, а трудное не нужно».
В моей жизни это стало первейшей заповедью. И до чего ж здорово ругался этот великий философ:
— Рухлядь!… Смесь!… Сволочь!… Сечь!… Лом!… Сплочь!… Хвост!… и т. д.
А это разве не великолепно:
«Телишко мое есть маленькая кучка, но и та мне скучна».
Умер «старец» Сковорода на мешке с книгами.
* * *
Наши критики взяли меня в обработку со дня литературного рождения. Пенза не в счет, а в Москве я впервые напечатал цикл стихов в альманахе поэтов «Явь» (1918 г.). Соседствовали Андрей Белый, Борис Пастернак, Есенин и др. Но навалились почему-то на меня одного. Кампанию открыла «Правда». Сразу же после появления в книжных витринах «Яви» на первой странице могущественной газеты были тиснуты две колонки под внушительной «шапкой» — «Оглушительное тявканье». А за «Правдой», как и следовало ожидать, «пошла писать губерния!».
В таких прискорбных случаях наш брат обычно находит себе утешение в высоких исторических аналогиях. Меня, как помнится, больше других утешал Антон Павлович Чехов. После выхода в свет его книги «Пестрые рассказы» писали так: «Чехов, увешавшись побрякушками шута…» «Книги Чехова… представляют собою весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта…» и т. д.
Много лет спустя Антон Павлович жаловался Горькому и Бунину: «Один критик написал, что я умру пьяным под забором».
Чудно!
* * *
Какие острые, умные речи произношу я… на улице, на Литейном, на Загородном, при фонарях, при звездах, шагая к себе на Бородинку после очередного собрания в Союзе писателей.
— Ба! Мысль! — ударяю себя по лбу, поднимаясь домой на лифте. — Напишу книгу: «Непроизнесенные речи».
И тут же вздыхаю:
— А где печатать? Когда? Опять после смерти? К черту! Надоело!…
И, конечно, не пишу и не напишу.
Сколько таким образом у меня погибло романов, пьес, стихов.
* * *
Зимой 1942 года Никритина с бригадой большедрамовцев была на московском фронте, под Сухиничами. Армией командовал Рокоссовский. Он был необычайно любим и солдатами, и офицерами, и колхозными старухами, и ребятишками. Можно было часами ехать по лесной дороге и видеть букву "Р", вырезанную на коре деревьев.
После выступлений артистов на передовых позициях Рокоссовский устроил для них банкет.
Водку, конечно, пили стаканами.
Гости и командиры шумели:
— За Рокоссовского!… За Рокоссовского!…
А тот, не так давно выпущенный из тюрьмы, сквозь зубы сердито кидал:
— За Сталина!… За Сталина!…
Он хорошо понимал, зная азиатскую ревность нашего «фюрера», что эти тосты «За Рокоссовского!» могут ему недешево обойтись. Доносчиками-то кишмя кишела социалистическая республика.
После ужина стали танцевать.
Рокоссовский пригласил Никритину.
Так как женщины считают, что бестактность разрешена им самой природой, после первого круга Никритина спросила своего кавалера:
— Вот вы, Константин Константинович, ни за что ни про что сидели в тюрьме. Ну и как — простили это?
Рокоссовский ответил дипломатично:
— Да. Родина — как мать. А мать все равно простишь, если она даже несправедливо наказала.
Все когда-либо сидевшие за решеткой, как я заметил, потом годами обожают вспоминать это. Одни с юмором, другие — лирически, третьи — зло.
Крутясь в вальсе, стал вспоминать и Рокоссовский:
— Подлец следователь однажды спросил меня: «А как, проститутка, ты пролез в нашу партию?»
— И вы не проломили ему череп?
— Нет. Подлец вовремя отскочил. А табуретку я действительно уж поднял над башкой.
Вальс продолжался.