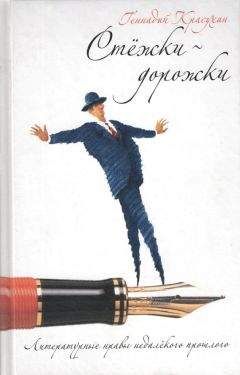Ознакомительная версия.
Игорь Щипанов был убеждённым гедонистом. Любил пожить. «Значит так, – сказал он при первой нашей встрече, – мы с тобой будем нечто вроде пресс-центра. Я договариваюсь, например, с «Комсомолкой», ты пишешь заметку о выходящем фильме. Подписываемся оба, и гонорар пополам».
– Аннотацию? – спросил я.
– Ну, на что договоримся, – ответил он. – Что нужно газете, то и пишем. Вдруг потребуется статья о нескольких фильмах, – он подмигнул мне. – И денег получим побольше. Не помешают, правда? – радостно засмеялся Игорь.
Менеджер из него вышел никудышный. Дважды он договаривался непосредственно с редакциями – с «Комсомолкой», с «Московским комсомольцем». Оба раза заметки принимали, набирали, но на полосы не ставили. А когда фильм выходил в прокат, разводили руками: «Информация устарела!» Правда, какие-то деньги мы всё-таки получали: редакции обязаны были частично оплатить набранные и не пошедшие не по вине авторов статьи.
Щипанова, впрочем, не смущали эти неудачи. Ведь был ещё бюллетень ЦК ВЛКСМ, который рассылался в регионы. Статьи из него перепечатывала местная комсомольская печать. Туда мы помещали свои сообщения более-менее исправно. Но именно сообщения. Информацию. Больших статей этот бюллетень не печатал. А за сообщения платил копейки.
Но Игорю хотелось шика. И он его достигал через кинокомиссию, которая исполняла роль пропагандиста советского кино среди молодёжи.
В этой роли мы приехали с ним однажды на «Красной стреле» в Ленинград вместе с режиссёром Юрием Егоровым, композитором Марком Фрадкиным и актёром Славой Любшиным.
Мы привезли фильм Егорова «Если ты прав», в котором главных героев – телефониста и его девушку – играли Слава Любшин и Жанна Болотова.
Болотова уже была очень известной актрисой, а Любшина кинозрители пока что почти не знали. Это была одна из первых его ролей в кино.
Почему не смогла поехать Болотова, я не помню. А Фрадкин, писавший музыку почти ко всем кинофильмам Егорова, друживший с ним, ехать в Ленинград охотно согласился и оказался душой компании: именно у него в номере мы собирались по вечерам, попивая коньяк и слушая нескончаемые хохмы.
Он легко расположил к себе огромную молодёжную аудиторию завода «Светлана», которой показали этот новый тогда фильм, чтобы устроить его обсуждение.
Оно проходило вяло. Призыв секретаря комитета комсомола завода: «Выступайте! Это же о вас, о ваших ровесниках, о ваших современниках!» – как бы повис в воздухе. На него не откликнулись. Предпочли задавать вопросы нам, сидевшим на сцене. В основном, конечно, Егорову. Тот отвечал обстоятельно, но пресно. Спросили Любшина, не дебютировал ли он в этом фильме? Слава говорил оскорблёно. Нет, не дебютировал. Он снимался в недавно вышедшей «Третьей ракете» по повести Василя Быкова.
Я понял, почему Любшин не говорит о «Заставе Ильича», в которой он дебютировал. Этот фильм Марлена Хуциева, едва выйдя на экран, немедленно был снят. Посмотрев картину, Хрущёв пришёл в ярость: ему в ней привиделся (или об этом ему нашептали лизоблюды) некий непримиримый конфликт между революционными отцами и их нынешними сыновьями. О том, как топтал этот фильм Хрущёв на встрече с интеллигенцией, знали все. А кто в Ленинграде мог посмотреть картину, если и в Москве её увидели очень немногие?
А вообще он актёр театра, а не кино, продолжил Слава. Играл на сцене «Современника». Только что перешёл в театр на Таганке, где репетирует в спектакле «Добрый человек из Сезуана».
Холодок отчуждения, который ощущался между нами и залом, нарастал.
И здесь поднялся со стула Фрадкин. Спросил у молодёжи, понимает ли она, для чего фильму нужна музыка? И начал вспоминать смешные истории разногласий между режиссёрами и композиторами. К примеру, один другому доказывал, что снимает чистую драму. Другой отвечал, что на чистую драму его картина не тянет, – это мелодрама. Егоров засмеялся. Зал оживился. Зазвучали всем известные фамилии – Богословский, Дунаевский, Мокроусов, Соловьёв-Седой. «А понравилась ли вам песня из кинофильма, который вы только что посмотрели?» – спросил Фрадкин. Зал одобрительно загудел. «Или вы её уже забыли? – не унимался Фрадкин. – Напомнить?» – и отправился к роялю. «Вот только спеть я ещё хоть как-то, но смогу, – сказал, усаживаясь за рояль Фрадкин, – слух у меня вроде есть, а вот сыграть на пианино…» – Фрадкин сожалеюще развёл руками. В зале засмеялись. «Что вы смеётесь? С чего вы решили, что я умею играть?» – Фрадкин ударял пальцем по клавишам. Смех усиливался. «Ну ладно, попробуем», – решился Фрадкин. И после того, как исполнил песню, услышал: «Течёт Волга!» «О чём вы? Что это такое?» – недоумевающее спросил он. «Песня», – ответили. «Чья?» – удивление Фрадкин разыгрывал весьма натурально. «Ваша!» – смеялись в зале. «Вы про эту?» Фрадкин заиграл и запел и получил в ответ восторженные аплодисменты: «Течёт Волга» была в то время моднейшим шлягером.
Словом, контакт с залом был установлен настолько доверительный, что люди обступили нас и после объявленного комсоргом окончания и открыто говорили о том, что их действительно заинтересовало в фильме.
А заинтересовала их главным образом его концовка, поданная как воспоминание о сталинском лагере побывавшего в нём деда героини. Такие вещи в советском кино были леденящей душу новинкой: жуткий мороз, тепло одетые конвойные, замёрзшие заключённые, собаки, рвущиеся с поводков у конвоиров. И кто кого конвоирует? Немецкие фашисты пленных красноармейцев? Белые – красных? Нет, легендарные чекисты – советских граждан!
Егоров объяснял, что экранизировал рассказ, который был напечатан в «Известиях» как раз накануне выхода прославленного 11 номера «Нового мира» за 1962-й год с повестью «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына.
Позже я прочитал у Солженицына в книге «Бодался телёнок с дубом», каким образом 5 ноября, аккурат под октябрьский праздник, в «Известиях», возглавляемых Аджубеем, как я уже говорил, – всесильным хрущёвским зятем, прознавшим о готовящейся сенсационной публикации «Нового мира», – появился рассказ Георгия Шелеста «Самородок»:
«На редакционном сборе «Известий» гневался Аджубей, что не его газета «открывает» важную тему. Кто-то вспомнил, что был такой рассказик из Читы, но «непроходимый», и его отвергли. Кинулись по корзинам – уничтожен рассказ. Запросили Г. Шелеста. И тот из Читы срочно по телефону передал свой «Самородок». В праздничном номере «Известий» его и напечатали – напечатали с бесстыжей «простотой», даже без всякого восклицательного знака, ну будто рассказы из лагерной жизни сорок лет уже печатаются в наших газетах и настряли всем».
Нет, расчет Аджубея не оправдался: сенсации не получилось. Тема темой, но решена она Шелестом так, что лагерь в рассказе – словно пришитый собаке хвост. Дело там не в лагере, а в том, что четыре коммуниста на Колыме в 1942-м году, намывая золото, нашли самородок весом больше полутора килограмм, произнесли подобающие пафосные слова о родине, которой надо помогать, и сдали его лагерному начальству. А могли бы утаить находку, сбыв её бытовику-учётчику и получив от него гораздо больше благ, чем от начальства, которое в день сдачи самородка всего только их прилично накормило и позволило раньше времени прилечь на нары – отдохнуть от тяжёлой работы.
Ознакомительная версия.