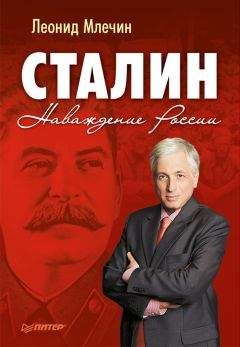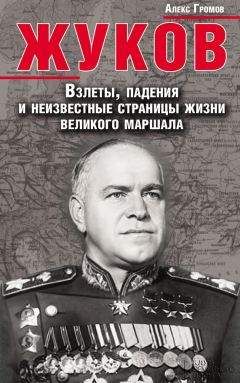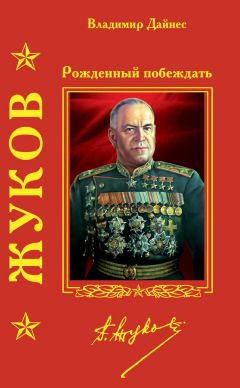И по сей день многие люди уверены, что Сталина убили. Версий множество. Одна фантастичнее и абсурднее другой. Но характерно: убийцу Сталина ищут среди его ближайшего окружения, то есть бессознательно воспринимают тогдашнее руководство страны как шайку преступников, ненавидящих друг друга и способных на все. Это эмоциональное восприятие недалеко от истины.
Услышав от врачей, что Сталин плох, тройка отправилась в Кремль. В сталинском кабинете собралось уже все партийное руководство. Сразу решили вызывать в Москву членов ЦК, чтобы в ближайшее время провести пленум. Но вместе с тем членов президиума ЦК не покидала сосущая внутренняя тревога: кто знает, не выкарабкается ли Сталин из кризиса, не преодолеет ли болезнь?
Маленков, будучи на пенсии, рассказывал сыну Андрею о последних днях Сталина:
«Я, Молотов, Берия, Микоян, Ворошилов, Каганович прибыли на ближнюю дачу Сталина. Он был парализован, не говорил, мог двигать только кистью одной руки. Слабые зовущие движения кисти руки. К Сталину подходит Молотов. Сталин делает знак — «отойди». Подходит Берия. Опять знак — “отойди”. Подходит Микоян — “отойди”. Потом подхожу я. Сталин удерживает мою руку, не отпуская. Через несколько минут он умирает, не сказав ни слова, только беззвучно шевеля губами…»
В реальности было иначе.
Утром 4 марта в ходе болезни Сталина как будто наступил просвет. Он стал ровнее дышать, он даже прикрыл один глаз, и присутствовавшим показалось, что во взоре его мелькнули признаки сознания. Больше того, им почудилось, что Сталин будто хитровато подмигнул этим полуоткрывшимся глазом: ничего, мол, выберемся!
Берия как раз находился у постели. Увидев эти признаки возвращения сознания, он в страхе опустился на колени. Однако признаки сознания вернулись к Сталину лишь на несколько мгновений. К счастью для его соратников, Сталин так и не выздоровел.
«Отец умирал страшно и трудно, — писала Светлана. — Лицо потемнело и изменилось, постепенно его черты становились неузнаваемыми, губы почернели. Последние час или два человек просто медленно задыхался. Агония была страшной. Она задушила его у всех на глазах.
В какой-то момент — не знаю, так ли на самом деле, но так казалось — очевидно, в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью…
И тут — это было непонятно и страшно, и я до сих пор не понимаю, но не могу забыть — тут он поднял вдруг левую руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно, к кому и к чему он относился… В следующий момент душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела».
5 марта 1953 года в восемь вечера в Свердловском зале открылось совместное заседание членов ЦК, Совета министров и президиума Верховного Совета. Собрались задолго до назначенного часа.
Никто ни с кем не разговаривал, все сидели молча. Появились члены избранного Сталиным бюро президиума ЦК, но с ними уже были Молотов и Микоян. Самые трудные времена для них миновали. Это подметил наблюдательный Константин Симонов:
«У меня было ощущение, что старые члены политбюро вышли с каким-то затаенным, не выраженным внешне, но чувствовавшимся в них ощущением облегчения… Было такое ощущение, что вот там, в президиуме, люди освободились от чего-то давившего на них, связывавшего их. Они были какие-то распеленатые, что ли…»
На похоронах Сталина выделялась делегация Лубянки — члены коллегии МГБ и партийного комитета с венком «И. В. Сталину от сотрудников государственной безопасности страны». Высшим чиновникам выдали именные пропуска для прохода на Красную площадь «на похороны Председателя Совета Министров СССР и секретаря Центрального комитета КПСС, генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина».
Впереди процессии шел первый заместитель министра внутренних дел СССР Иван Александрович Серов. Генералы на красных подушечках несли награды Сталина, затем ехала машина с орудийным лафетом, на котором стоял гроб, закрытый сверху стеклянным колпаком. На гранитной лицевой панели, изготовленной для Мавзолея на Долгопрудненском камнеобрабатывающем заводе, уже были слова «Ленин — Сталин».
Часть третья Жизнь после смерти
5 марта 1953 года началась новая эпоха, но мало кто это понимал. Поначалу аппарат, чиновники всех рангов соревновались в выражении скорби, считая, что именно этого от них ждут.
Писательница Валерия Герасимова, первая жена руководителя Союза писателей Фадеева и двоюродная сестра известного кинорежиссера Сергея Аполлинариевича Герасимова, описала траурный митинг в Союзе писателей 10 марта:
«Что-то завывал Сурков, Симонов рыдал — сначала и глазам не поверила, его спина была передо мной, и она довольно ритмично тряслась… Выступив, он сказал, что отныне самой главной великой задачей советской литературы будет воссоздание образа величайшего человека (“всех времен и народов” — была утвержденная формулировка тех лет).
Николай Грибачев выступил в своем образе: предостерегающе посверкивая холодными белыми глазами, он сказал (примерно), что после исчезновения великого вождя бдительность не только не должна быть ослаблена, а, напротив, должна возрасти. Если кто-то из вражеских элементов, возможно, попытается использовать сложившиеся обстоятельства для своей работы, пусть не надеется на то, что стальная рука правосудия хоть сколько-нибудь ослабла…
Ужасное собрание. Великого “гуманиста” уже не было. Но страх, казалось, достиг своего апогея. Я помню зеленые, точно больные, у всех лица, искаженные, с какими-то невидящими глазами; приглушенный шелест, а не человеческую речь в кулуарах; порой, правда, демонстрируемые (а кое у кого и истинные!) всхлипы и так называемые “заглушенные рыдания”. Вселюдный пароксизм страха».
Валерия Герасимова рано разобралась в происходящем и возненавидела Сталина. Однажды она с удивлением сказала сыну о бывшем муже, Фадееве:
— Знаешь, Саша искренне любит Сталина.
Александр Фадеев до последнего оставался, как было принято говорить, солдатом партии. Но отношение к Сталину и у него быстро изменилось. Увидев после долго перерыва Валерию Герасимову, вполголоса признался ей:
— Дышать стало легче.
И совсем скоро ему станет совсем не по себе от осознания того, чему он был свидетелем и в чем был деятельным участником. Когда Фадеев застрелился, его старый друг писатель Юрий Либединский с горечью заметил: