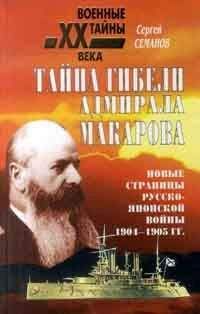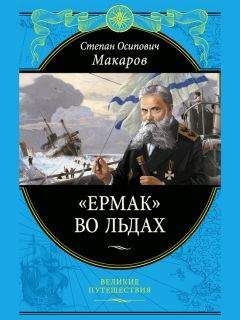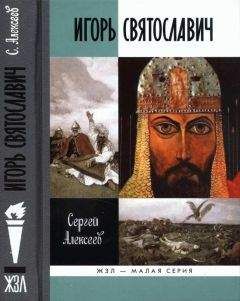На основании всего вышеизложенного японские подданные Юкока и Оки подлежат обвинению».
С лета 1905-го сражения на суше и на море стихли. Вроде бы Россия потерпела поражение, но именно «вроде». Война-то не закончилась. Да, на морском театре теперь безраздельно господствовали японцы, но русская сухопутная армия в Маньчжурии была сильнее, имела по сути неисчерпаемые резервы и в любой миг могла начать наступательные действия. Совсем иначе было с японской армией. Она исчерпала свои резервы, обученные пополнения почти не поступали. Финансовые средства небогатой тогда страны были полностью истощены, Япония находилась на краю банкротства. Но Россия не могла воспользоваться этим своим образовавшимся преимуществом, ибо подпольные разрушительные силы развернули в стране революцию. Итак, мир был выгоден обеим сторонам. И он был без затруднений заключен.
В Токио знали о своих слабостях лучше всех, поэтому японское правительство еще в апреле 1905-го обратилось к правительству США с просьбой о посредничестве в деле заключения мира с Россией. В Вашингтоне охотно согласились «помочь» (еще бы: у молодого американского хищника тоже разгорелся аппетит к Тихому океану, поэтому усиление Японии было тут излишним). На переговоры с японцами прибыл от России известный деятель либерального образца Витте, человек умный, опытный в таких делах и дипломатичный. Президент США Теодор Рузвельт (не путатьь его с однофамильцем времен Второй мировой войны) в своих интересах содействовал миссии Витте.
Сергей Юльевич Витте был происхождения куда как не родовитого, успехов на государственном поприще он добился исключительно своими способностями. А они были немалые и разнообразные. Он и финансистом был прекрасным, и администратором, и дипломатом. Последнее он отчетливо проявил на переговорах с японцами после проигранной войны. Ход переговоров он скупо, но довольно точно описал в своих мемуарах, написанных в старости, а опубликованных после кончины. Вот небольшой отрывок из них.
* * *
Переезд в Америку я сделал в течение шести суток. Море было довольно спокойное, меня почти что не укачивало. На пароходе я обедал отдельно вместе со своей свитой, иногда приглашал на обед некоторых корреспондентов и только раза два я обедал вместе со всей публикой. Оказалось, что на пароходе едут многие люди просто из любителей сенсационных явлений, для того, чтобы быть на месте во время предстоящего политического турнира между мною и Комурою.
Весь ход переговоров, мои сношения с президентом и Петербургом видны из официальных документов, хранящихся в моем архиве, которые я, если буду иметь возможность, приведу в систематический порядок и снабжу там, где это окажется нужным, комментариями. Поэтому здесь я буду излагать по памяти то, что не могло составить предмет документов, — различные более или менее внешние явления и события.
Когда мы приближались к Нью-Йорку, наш пароход встретило несколько пароходов с корреспондентами различных американских газет. Когда эти корреспонденты вошли на пароход, я им высказал радость по случаю приезда моего в страну, которая всегда была в дружественных отношениях с Россией, и мою симпатию к прессе, которая играет такую выдающуюся роль в Америке. С тех пор и до моего выезда из Америки я всегда был, если можно так выразиться, под надзором газетчиков, которые следили за каждым моим шагом. В Портсмуте, не знаю, с целью или нет, мне отвели две маленькие комнаты, из которых одна имела окна, таким образом направленные, что через них было видно все, что я делаю. Со дня приезда и до дня выезда из Америки меня постоянно снимали кодаками любопытные. Постоянно, в особенности дамы, подходили ко мне и просили остановиться на минуту, чтобы снять с меня карточку. Каждый день обращались ко мне со всех концов Америки, чтобы я прислал свою подпись, и ежедневно приходили ко мне, особенно дамы, просить, чтобы я расписался на клочке бумаги. Я самым любезным образом исполнял все эти просьбы, свободно допускал к себе корреспондентов и вообще относился ко всем американцам с полным вниманием. Этот образ моего поведения постепенно все более и более располагал ко мне как американскую прессу, так и публику. Когда меня возили экстренными поездами, я всегда подходил, оставляя поезд, к машинисту и благодарил его, давая ему руку. Когда я это сделал в первый раз к удивлению публики, то на другой день об этом с особой благодарностью прокричали все газеты. Судя по поведению всех наших послов и высокопоставленных лиц, впрочем, не только русских, но вообще заграничных, американцы привыкли видеть в этих послах чопорных европейцев, и вдруг явился к ним чрезвычайный уполномоченный русского государя, председатель Комитета министров, долго бывший министром финансов, статс-секретарь его величества, и в обращении своем он еще более прост, более доступен, нежели самый демократичный президент Рузвельт, который на своей демократической простоте особенно играет. Я не сомневаюсь, что такое мое поведение, которое налагало на меня, в особенности по непривычке, большую тяжесть, так как в сущности я должен был быть непрерывно актером, весьма содействовало тому, что постепенно американское общественное мнение, а вслед за тем и пресса все более и более склоняли свою симпатию к главноуполномоченному русского царя и его сотрудников. Этот процесс совершенно ясно отразился в прессе, что легко проследить, изучив со дня на день американскую прессу того времени. Это явление выразилось в телеграмме президента Рузвельта в конце переговоров, после того как он убедился, что я ни за что не соглашусь на многие требования Японии и в том числе на контрибуцию, в которой он, между прочим, констатировал, что общественное мнение в Америке в течение переговоров заметно склонило свои симпатии на сторону России, и что он, президент, должен заявить, что если Портсмутские переговоры ничем не кончатся, то Япония уже не будет встречать то сочувствие и поддержку в Америке, которую она встречала ранее. Телеграмму эту показал мне Рузвельт, когда я ему откланивался, покидая Америку.
Рузвельт с самого начала переговоров и все время старался поддерживать Японию. Его симпатии были на ее стороне. Это выразилось и в поездке, уже предпринятой в то время, его дочери с американским военным министром в Японию, но как умный человек, по мере того как склонялись симпатии общественного мнения в Америке к России, он почувствовал, что ему опасно идти против этого течения, и он начал склонять Японию к уступчивости. Такому повороту общественного мнения содействовали и японские уполномоченные. В этом отношении они явились моими союзниками. Если они не были чопорны как европейские дипломаты-сановники, чему, впрочем, случайно препятствовала и их внешность, то тот же эффект производился на американцев их скрытностью и уединенностью.