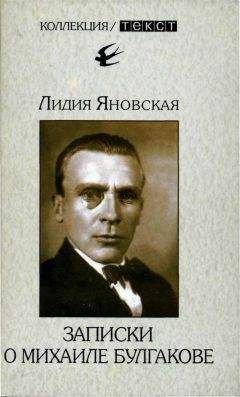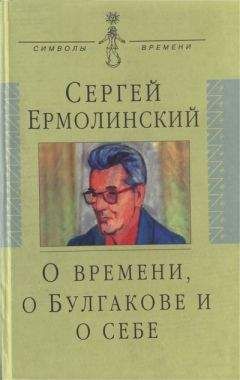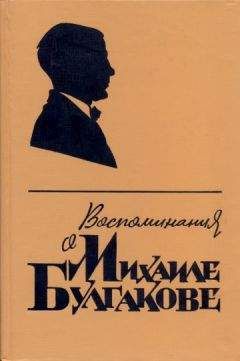Вот что бывает, когда автор оказывается во власти персонажей» (С. А. Лурье. — «Звезда», 1993, № 7).
Вот так: невинные игры с текстами, несколько небрежных отсылок к несуществующим архивным данным — и готовы политические обвинения против мастера и его подруги. Со временем ход мыслей критика забудется. И источник этих мыслей — текстологические фантазии В. И. Лосева — забудется. А политические обвинения и какие-то намеки на приспособленчество и нечестность — останутся. Публика любит политические обвинения и намеки...
Но если работа Е. С. Булгаковой была безукоризненной, то, может быть, следовало бы просто сохранить — без проверки и без поправок — весь подготовленный ею текст?
Увы, безукоризненной эта работа не была. Е. С. — первый редактор! — делала ошибки. А поскольку правка была огромной, таких ошибок оказалось немало.
Так, она была уверена, что в литературном языке существуют пары слов с навсегда определенным порядком и что порядок этот менять нельзя. В 60-е годы, читая мою рукопись о жизни и творчестве Михаила Булгакова, самым строгим образом делала мне соответствующие замечания и в отношении меня, вероятно, была права. Но теперь, изучая текст, я обнаружила, что такие поправки — перестановку слов — она в ряде случаев внесла в роман «Мастер и Маргарита».
Вместо булгаковского «ничего нет удивительного» появилось «нет ничего удивительного»; вместо «в глазах этой уверенности отнюдь не было» — «не было отнюдь»; вместо «отчаянно мысленно вскричал Римский» — «мысленно отчаянно» и т.д. Это сглаживало и разрушало божественную булгаковскую интонацию, музыкальную, но отнюдь не гладкую...
Есть и другие промахи. В характерном для Булгакова выражении: «острым слухом уловил прокуратор далеко и внизу» — полагаю, Е. С., а не автор, опустила союз «и». И в последней строке 31-й главы — там, где Маргарита, обернувшись на скаку, увидела, что уже нет и самого города, ушедшего в землю и оставившего «по себе только туман», — булгаковское «по себе» Е. С. неловко заменила редакторским «за собою». В ее редакции: «и оставил за собою только туман».
В некоторых случаях, когда выражение Булгакова казалось ей непонятным или неправильным, она вводила новое слово. И хотя делала это крайне осторожно, ошибалась.
«Почему-то приковавшись к ветвям, Римский смотрел на них...» — Е. С. исправила так: «приковавшись взглядом к ветвям». И была не права: в романе, в весьма удаленных одно от другого местах, Булгаков дважды употребляет это выражение — «приковаться»; и оба раза — без принятого в таких случаях «взглядом». У мастера было свое ощущение слова.
Другой пример. В эпилоге: «Он проходит мимо нефтелавки, поворачивает там, где покосившийся старый газовый фонарь...» Здесь Е. С. ввела слово «висит»: «там, где висит покосившийся старый газовый фонарь». Но в романе речь идет не о висящем, а о стоящем косо («покосившемся») газовом фонаре. (Кстати, эта ошибка была «втянута» затем в издание 1973 года.)
В редакторской работе Е. С. Булгаковой можно найти и небрежное (я бы даже сказала: неквалифицированное) отношение к окончаниям типа «своей — своею», «рукой — рукою». Хотя в музыкальной прозе Булгакова наличие или отсутствие лишнего слога очень важно. И, как справедливо отметила Анна Саакянц в ее интервью В. Петелину, несколько раз вольное булгаковское «нету» было заменено Еленой Сергеевной на правильное и беззвучное «нет»...
Разумеется, такого рода ошибки и промахи, там, где их удалось выявить, я сняла — сначала частично, в киевском двухтомнике, потом более полно, в Собрании сочинений. Здесь вместе со мною придирчиво и с увлечением вычитывали роман редакторы издательства «Художественная литература» — Чулпан Залилова и Кира Нещименко. Мы часто спорили, иногда бурно. За спорами следовали поиски новых аргументов — в других рукописях романа и в других произведениях писателя. Случалось, это приводило к новым решениям. И только одно меня удивляло: что же они — при такой страсти к текстологии — выпустили совсем без текстологической сверки «Белую гвардию» и «Театральный роман», а рассказ «Ханский огонь» — и вовсе по моей давней журнальной публикации, вместе с давно обнаруженной и снятой мною (в печати!) ошибкой...
Можно ли, наконец, теперь считать завершенной текстологическую работу с «Мастером и Маргаритой»? Я бы ответила осторожнее: на данном этапе знания творчества Михаила Булгакова, на нынешнем уровне сохранности и доступности его архивов — да, пожалуй, это максимальное приближение к истине.
Но текстология в принципе не знает последней точки. Текстология — процесс, и новые открытия — рукописей, редакций, свидетельств — могут вызвать неожиданные повороты и в трактовке отдельных подробностей, и в освещении целых спорных узлов. Пока же остается по-прежнему продвигаться неторопливо и на ощупь, опасаясь слишком лихо снимать то, что кажется поправкой Е. С. Булгаковой. Ибо вечно остается сомнение: а что, если в ее руках был не дошедший до нас лист, а на нем — замечание, завещание, распоряжение, сделанное рукою Михаила Булгакова?
1992, 1996
Публиковать или не публиковать в книге этот горестный до отчаяния и вместе с тем слишком личный документ?
Известно: писатель не должен в своем сочинении кричать от боли — физической, лично ему причиненной боли. («В особенности ненавистен мне людской крик, будь то крик страдания, ярости или какой-нибудь иной крик». — «Мастер и Маргарита».) О своей боли художник пишет только тогда, когда может взглянуть на нее со стороны — как на тему, как на материал, достойный быть запечатленным. И тогда даже ярость, уже сдержанная и связанная законами гармонии, находит свое место.
В этом «Письме» — крик боли, еще не ставшей предметом художественного осмысления. Поэтому оно угловато, местами грубо, полно длиннот. Некоторые сюжетные нити и мотивы «Письма» перелились потом в новеллы, очерки и эссе, составившие эту книгу; другие остались невостребованными — может быть, потому, что они не так важны или просто не пришло их время. И если бы это «Письмо» оставалось только фактом моей биографии, конечно, его не нужно было бы публиковать.
Но как быть? — «Письмо» стало литературным фактом. Оно известно. Ходило по рукам. Было опубликовано. Попало в библиографии. Оно существует независимо от автора, и не все тут решает автор. Теперь уже «Письмо» требует от автора — публикации. Авторской публикации — как признания и подтверждения подлинности «Письма». И еще — как подтверждения того, что автор, даже досадуя на стиль, который уже нельзя исправить, тем не менее по существу ничего не желает перечеркивать — ни в этом «Письме», ни в прожитой жизни со всеми ее взлетами и поражениями.