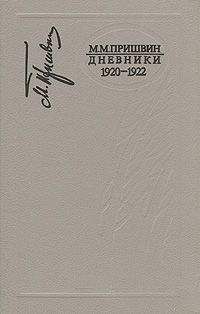В центре внимания писателя человек жизни, до которого «нет никому дела», — он становится героем писателя («не дам я тебе от нас исчезнуть, живи, любимый человек!»).
Гибель России создает новую ситуацию для русского человека: идет свертывание большого чувства родины, оно уходит вовнутрь, превращается в точку в душе человека, в ту точку земли, где он живет, в точку приложения его труда, через которую «можно провести его личный меридиан и его личную параллель по всему земному шару» («надо работать в исходной своей точке», «изба — лаборатория жизни»). В дневнике появляются мысли о краеведении («Каждый может заниматься краеведением, тот каждый, кто любит свой край…»), краеведение рассматривается как наука, направленная «на улучшение породы самого человека», осознавшего, что место его жизни и труда лежит на пересечении «меридианов и параллелей всего земного шара».
Пришвин не только философски осмысляет ситуацию и умозрительно нащупывает выход из нее. В этом пустом пространстве, в стране погибшей, где царят беззаконие и ложь, писатель начинает различать жизнь («Россия пустыня, покрытая оазисами», «приходит в голову, что и сейчас, может быть, есть огромная неизвестная мне область жизни, полная тайн»). В России, где «от интеллигенции остались только черные пни», он обнаруживает, что «озимь всходит… холодная, строгая озимь, зеленеющая, несмотря на зиму», — без сомнения имеется в виду та «зима истории», которую он увидел в России 1919 г. И один из его учеников, поступивший в Москве учиться, «может долго не есть, не спать, читать Достоевского… крепкий, как озимь», — изменения связываются с образом озими, прорастающей благодаря силе жизни, заключенной в зерне. Жизнь пробивает себе дорогу по-разному («эта глупая беременная баба пошла в Укомпарт, там только взглянули на Пузо и удовлетворили ее даже несправедливую претензию (выгнали меня из флигеля и посадили Пузо рожать)»), но пробивает неуклонно. В дневнике начала 20-х гг. в пришвинской оценке жизни уже нет безысходности, а есть трагедия и человек, стоящий перед изменением своей судьбы («тайна жизни связана с индивидуальностью», «Я больше революции», «Сегодня я проснулся с мыслью о возрождении»). Мысли «о возрождении» не вызывают у писателя ни успокоенности, ни надежды на кардинальное изменение окружающей действительности или приятие ее («Часто приходит в голову, что почему я не приемлю эту власть, ведь я вполне допускаю, что она, такая и никакая другая, сдвинет Русь со своей мертвой точки, я понимаю ее как необходимость. Да, это все так, но все-таки я не приемлю»). Отныне история власти и страдающей личности становится главной темой его творчества до конца жизни («если даже мне удастся совершенно очистить свою душу от эгоизма, у меня останется одна тема: Евгений из „Медного Всадника“»). Отказ от жизни — вот принцип большевизма, не приемлемый для Пришвина («рассуждая книжно, принципиально, они пропускают то малое, живое, природное, без чего жизнь не в жизнь»).
Как происшедшая катастрофа, так и выход из нее обсуждаются Пришвиным в контексте судьбы культуры. Культура разрушена, но культурная память сохранилась в отдельных личностях. Жизнь ориентирована на отдельную личность, которая автономна и содержит в себе все — в ней собирается воедино все богатство, созданное мировой культурой («Культура — это мировая кладовая прошлого всех народов и того именно прошлого, которое входит в будущее и не забывается»).
С этой точки зрения понятна и эклектичность дневника писателя. Это не оттого, что мировоззрение не продуманно — напротив; дело в том, что в дневнике актуализируется целый ряд образов мировой культуры, используются противоположные по идейному содержанию философские системы, на страницах дневника идет диалог с Блоком, Розановым, Достоевским, Джемсом, Бергсоном, Герценом, Бёме. Их произведения Пришвин не только читает, но и делает выписки, соглашается или полемизирует с их идеями, включает их в живой процесс собственной мысли. Кроме того, для характеристики мировоззрения Пришвина очень важно, что он не был нигилистом, ниточка связи с традицией (культурная память) сохраняется у него даже в самых крайних и резких суждениях («культура — это дело связи народов и каждого народа в отдельности с самим собою», «я деятель связи»).
В новом мире существенно изменяется и роль литературы. Русская литература была отражением целого — органической жизни народа, претендовала на то, чтобы быть носителем духовного сознания, и была им. Пришвин чувствует, что творческая жизнь больше не может развиваться в русле этой традиции («Раньше писалось мне в предположении, что я живу среди народа с великим будущим, но теперь как писать… и не пишется»). Весь ареал существования художника, в котором он может жить по законам свободы, уничтожен («никогда не напишу легальной вещи… я под игом никогда не обрету себе в душе точки зрения, с которой революция наша, страдания наши покажутся звеном в цепи событий, перерождающих мир»).
В дневнике идет умаление литературы («бедный Пушкин») посредством возвеличивания жизни; литература становится дополнением жизни — отражением ее избытка («Литература занимается избытками жизни»). В новом соотношении подчеркивается самоценность жизни и роль личности художника, который осмысляется как творец, законодатель своего мира, организующий мир вокруг себя («Я и Отец одно — почему и как одно — законник и художник одно»). Новое соотношение творца и творения пробуждает небывалый интерес к самой творческой личности.
Творческая жизнь подошла к настоящему концу, но жить без писательства Пришвин не может и начинает все сначала: ходить ногами — жизнь и писательство организуются вокруг охоты, ежедневно записывать погоду — появляются отметки температуры, будущая пришвинская фенология. Охотничья жизнь в природе становится формой, синтезирующей творчество его бытовой и духовной жизни.
В то же время власть начинает преследовать все противостоящее ей — с 1917 по 1922 г. из России уезжает целая плеяда лучших представителей русской культуры. Рассеиваются надежды на контрреволюцию, социализм в своей претензии на абсолютную самодостаточность охватывает все сферы жизни («Почему социализм преследует искусство и религию?., потому что социализм (в теории) вмещает в себя и Бога, и красоту, и правду»). Одновременно в дневнике определяется и роль литературы, утверждающей новую идеологию («Время садического совокупления власти с литературой»).
К этому времени относится стремление Пришвина избавиться от несвойственного ему «траурного писания», которое навязывает ему современность, — путь к этому он видит в обращении к детской литературе («связать писательство с детьми»). Это случится, однако, позднее, а в эти годы «освобождение от современности» происходит у писателя иным образом. В 1916–1922 гг. Пришвин пишет пьесу «Базар» (см.: Пришвин М. М. Собр. соч.: В 4 т. М.: Художественная литература, 1939. Т. 4. С. 295–315), включенную им в цикл «Слепая Голгофа». Действие пьесы разворачивается на огромной рыночной площади, вмещающей «разнопоставленные классы купцов и мещан». Чертова Ступа — «носитель духа злобы», овладевающего простонародьем. В ее пророчестве соединяется идея социального возмездия («все будут в огне гореть, проклятые, всех вас истолчет Чертова Ступа, всех господ, всех купцов, всех попов») с мрачным религиозным фанатизмом («Сказано в писании, что сцепится черный орел с красным… Близок час: едет черт на дикой козе… Сын на отца, дочь на мать, брат на брата»). Чертова Ступа «с поднятой рукой, в двух пальцах которой, как в двуперстии, цигарка», — пародия на боярыню Морозову и ее речи — пародия на старообрядческий пафос возмездия за неправедную жизнь на земле. Улетел белый перепел, некогда спасавший купца от злобы «голытьбы», гаснет неугасимая лампада над купеческой лавкой, и силами человеческими заставить гореть ее уже не удается («Потухла. Что же это такое, сию минуту сам налил, сам зажег»), парадоксальным преступным путем приходит к Богу ростовщик, которого все вокруг ненавидят («я морил свою жену, измором в могилу загнал… и тут меня так стукнуло, и такое произошло, что смерть эту я как любовь принял… принял Христа не по умству, а как заразу… И существо, бывшее во мне в затемнении, вдруг воссияло»). Страшно бессловесное действие «дюжего парня из толпы», который одним ударом прекращает спор («удар его страшен тем, что выходит из молчания, из скалы, из бессмыслицы»).