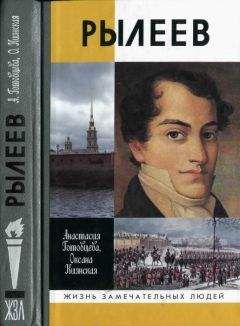Оболенский, в отличие от Муравьева-Апостола и Рылеева, в 1826 году остался жив — его спасли принадлежность к титулованной российской знати, родство и знакомство с влиятельными сановниками. Вина тридцатилетнего князя была вполне соотносима с виной Муравьева: он был одним из главных организаторов событий 14 декабря на Сенатской площади. После неявки на площадь Сергея Трубецкого Оболенский пытался руководить мятежными полками. В пылу мятежа именно он нанес штыковой удар генерал-губернатору Петербурга Милорадовичу; возможно, что именно эта рана, а не нанесенная пулей Каховского, оказалась смертельной. Всего нескольких судейских голосов не хватило для того, чтобы Оболенский стал шестым приговоренным к повешению. Он был осужден на пожизненную каторгу.
Офицеры-павловцы не любили Оболенского, в феврале 1820 года убившего на дуэли их сослуживца, восемнадцатилетнего прапорщика Петра Свиньина. Об обстоятельствах этого поединка в документах сохранились лишь глухие упоминания, зачастую опровергающие друг друга. Согласно обобщенным сведениям, собранным Павлом Пестелем, «вследствие разлада между некоторыми офицерами полка» Оболенский «был принужден драться с одним из товарищей и имел несчастье убить его. Но его величество государь нашел причины настолько значительными и поведение молодого человека настолько хорошим, что ему ничего не сделали и даже не посадили под арест». После дуэли Оболенский решил сменить место службы. Пестель хлопотал о его переводе во 2-ю армию{849}. Однако в итоге он был переведен в лейб-гвардии Финляндский полк и перешел на адъютантскую должность.
Естественно, дуэль Свиньина и Оболенского и последовавшие за ней события не прошли мимо Дольмана, служившего с Оболенским в одной роте. Офицеры-павловцы, в отличие от императора, не поддержали будущего организатора восстания; их симпатии были на стороне убитого Свиньина. Однако нелюбовь к Оболенскому, а также верноподданнические чувства, которые наверняка испытывал Польман, не могут объяснить, почему он согласился стать палачом.
* * *
Документы свидетельствуют: Польман был беден, и это обстоятельство оказалось для него роковым.
Девятого июня 1826 года, когда вряд ли кто-то из непосвященных в тайну следствия и суда мог предположить, чем закончится громкий политический процесс по делу о «злоумышленных обществах», штабс-капитан написал императору Николаю I письмо с рассказом о собственных «стесненных» обстоятельствах:
«Имев несчастие вскоре после потери отца испытать таковую же потерю и матери, тем более для меня тягостную, что она при беднейшем ее состоянии пеклась о содержании и воспитании трех сестер и малолетнего брата, оставшихся ныне без собственного пристанища и без родственников, к коим бы они в настоящем их положении могли прибегнуть, я как старший в семействе обязан принять на себя священный долг иметь о них попечение и не предвижу к сему иного средства, как токмо присоединить их к себе, но, не имея ни малейшей возможности содержать здесь таковое семейство, осмеливаюсь, Всемилостивейший Государь, повергнуть участь мою с тремя сестрами и одним малолетним братом Высочайшему Вашему воззрению и покровительству, умоляя Ваше императорское величество благостию к Вашим верноподданным всемилостивейшее повелеть: снабдить меня заимообразно выдачею пяти тысяч рублей на десять лет без процентов.
Сие благодеяние будет само по себе великим для семейства сирот и запечатлеется в них вечною благодарностию. Что же касается собственно до меня, то я, сверх утешения видеть благосостояние их, буду иметь счастие оставаться в настоящем служении моем до тех пор, доколе оно будет угодно Вашему императорскому величеству»{850}.
Однако эта частная просьба пересеклась с соображениями государственной важности. За три дня до прошения Польмана император Николай I писал брату Константину: «Затем последует казнь — ужасный день, о котором я не могу думать без содрогания»{851}. До вынесения приговора оставалось еще три недели, до объявления его заключенным — почти месяц.
Очевидно, что неминуемость казни хорошо осознавали высшие чины Гвардейского корпуса. По-видимому, задолго до этой мрачной церемонии было решено, что конвойные обязанности исполнит гвардейский Павловский полк, на Сенатской площади проявивший полную лояльность императору.
И послание Польмана решили, по-видимому, придержать.
Ему был дан ход только 11 июля. Командир Гвардейского корпуса генерал Воинов представил копию письма и послужной список штабс-капитана военному министру Татищеву с аттестацией: «…как свидетельствует полковой командир флигель-адъютант полковник Арбузов, по отлично усердной службе и совершенно расстроенным семейным обстоятельствам, заслуживает испрашиваемой им монаршей милости». Очевидно, принципиальное согласие Польмана руководить конвоем было достигнуто как раз в этот день{852}.
Казнь состоялась спустя два дня.
* * *
Около двух часов ночи конвой под командованием Польмана вывел осужденных на смерть из тюремных камер и разместил в одном из земляных помещений под валом, на котором стояла виселица. Здесь они пробыли около полутора часов: в три часа ночи на территории кронверка начался и продолжался в течение часа обряд гражданской казни. Кроме того, виселицу к нужному моменту достроить не успели. Очевидец рассказывал: «Эшафот был отправлен на шести возах и неизвестно по какой причине вместо шести возов прибыли к месту назначения только пять возов; шестой, главный, где находилась перекладина с железными кольцами, пропал, потому в ту же минуту должны были делать другой брус и кольца»{853}.
В ожидании окончания строительства приговоренных расковали, переодели в смертническую одежду (длинные белые рубахи с черными кожаными квадратами на груди, на которых были написаны фамилии осужденных, и с капюшонами, закрывавшими лица), их собственную одежду сожгли на костре. Затем их связали веревками (по другим свидетельствам — кожаными ремнями). Выведя под виселицу, их поставили на колени, еще раз прочли приговор, а затем подняли на эшафот.
Но исполнение приговора опять пришлось задержать — «за спешностию виселица оказалась слишком высока или, вернее сказать, столбы ее недостаточно глубоко были врыты в землю, а веревки с их петлями оказались поэтому коротки и не доходили до шей». Пришлось брать «школьные скамьи» из находившегося неподалеку здания училища торгового мореплавания. Скамьи были поставлены на доски, преступников втащили на скамьи, надели им на шеи петли, а капюшоны натянули на лица{854}.