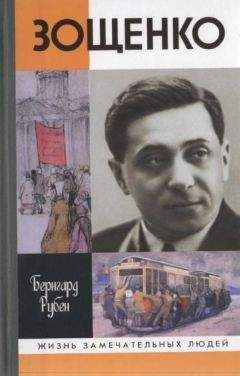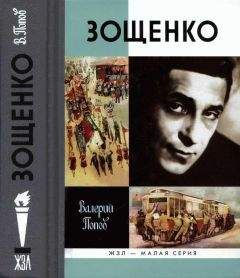Ознакомительная версия.
И вот таким промахом, который я допустил, я, может быть, ввел в заблуждение товарищей, которые подумали, что я якобы не согласился с докладом в целом, что я противостою партии и писателям. Это абсолютно не так!
(Председатель[14]: Вам много еще времени надо? Минут пять вам хватит?)
Да, это мой промах в том, что я не сразу разобрался в этом вопросе. Я ответил не совсем точно, и я готов понести наказание. Я считаю, что я в этом повинен. Но я, кажется — и даже наверное, — и без того себя наказал. Я знаю, что означает такая статья, которая порочит меня такими словами, как «скрыл». Я знаю о затрудненных отношениях с издательствами, надменные взгляды редакторов. Но все равно! В моей сложной жизни это для меня сейчас тяжкое дело, но даже и в этом случае я не могу согласиться с тем, что я был назван так, как это было сказано в докладе.
Вот уже 8 лет мне трудно, почти невыносимо жить с этими наименованиями, которые повисли на мне, которые так унизили мое человеческое достоинство.
Я кратко скажу сейчас, что это не вопрос мелкого самолюбия — что вот я обиделся. Это не так. Я понимаю масштабы государства и мой мелкий масштаб. Не в этом дело, вопрос не об этом идет. Вопрос о том, что многие обвинения, которые мне были предъявлены, я по пунктам, с бумагой в руках докажу, что это не так.
Я никогда, как это было сказано, не втирался в редакции, не желал лезть в руководство. Этого не было — было наоборот. Кто смеет мне сказать, что это было не так? Я бежал, как черт от ладана, я просил и умолял, чтобы меня не включали в редколлегию «Звезды». Мне товарищи на президиуме сказали: «Смирись! Уже подписано твое назначение».
Как получилось, что рассказ «Обезьяна» я «напечатал с пасквильной целью»?
Этот рассказ был напечатан еще в 1945 г. в журнале «Мурзилка» для дошкольников. Он был напечатан до неурожайного года, когда даже не могла и возникнуть мысль о пасквиле. И без моего ведома был перепечатан этот рассказ. Я узнал об этом много позже. Почти фатально сложилось… Да, конечно, я никогда не вынул бы этот рассказ из серии детских рассказов и не дал бы в толстый журнал. Да, в толстом журнале он мог бы выглядеть странно. У меня самого мелькнула бы мысль: что автор хотел этим сказать? Это было действительно для дошкольников написано, и никакого подтекста я — клянусь! — не вложил в него.
Как получилось?
Мне сказали, что я не захотел помочь советскому государству в войне, что я трус и окопался в Алма-Ата.
Я дважды воевал на фронте, и имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я — трус?
Кто мне может сказать, что из Ленинграда я бежал?
Товарищи знают: я работал в радиокомитете, в газете, я написал вместе со Шварцем антифашистское обозрение «Под липами Берлина», и это обозрение шло во время осады.
Эти люди живы и находятся здесь, в Ленинграде: Акимов, который ставил, Шварц, который писал со мной. Весь город тогда был заклеен афишами с карикатурами Гитлера. Это было в августе — сентябре 1941 года. Как же можно говорить, что я трус, что я не хотел помочь советскому человеку?
Я не хотел уезжать. из Ленинграда, мне предложили и приказали.
Я не был никогда не патриотом своей страны. Я не могу согласиться с этим! Что вы хотите от меня? Что я должен признаться в том, что я — пройдоха, мошенник и трус?!
Я заканчиваю.
Последняя фраза. Я могу сказать: моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. Я не могу выйти из положения. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын!
Как я могу работать?
Я думал, что это забудется. Это не забылось — и через восемь лет мне задают этот вопрос. Может быть, это задали враги, но я получаю письма от читателей, ко мне приходят и спрашивают. Я знаю, что это не забылось!
У меня нет ничего в дальнейшем! Я не стану ни о чем просить! Не надо вашего снисхождения, ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков! Я больше чем устал!
Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею!
(Аплодисменты.)[15]
Вера Зощенко
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
…Я приехала в Сестрорецк в понедельник 12 мая поздно вечером. И позвонила ему в следующий вторник. Звоню, слышу странный, чужой голос. Говорит: «Я был очень болен, мне было очень плохо… Был Иригонников… Нашел отравление никотином и на почве этого отравления — легкий спазм мелких сосудов головного мозга… У меня было затемненное сознание… Я не воспринимал речь, не узнавал людей, не понимал, что мне говорят…»
Ах, как все упало во мне от этих слов! Почему же мне не дали знать? Почему меня не вызвали сразу? Ведь заболел он дня через два после моего отъезда.
Как выяснилось, уже во вторник у Груздевых он был не вполне здоров.
Спрашиваю — кто ухаживает за ним? Отвечает — приходит Дуся Слонимская. И Валя, и Тося[16] приходят, и ему уже лучше. Я говорю, что приеду завтра же.
— Нет, нет, не надо, мне нельзя волноваться, ты позвони через два дня, и тогда договоримся, когда я приеду.
Ну что ж! В страшном волнении звоню Валерию, чтобы узнать, в чем дело и насколько серьезна болезнь. Ни Валерия, ни Антонины дома не застала. Звоню Слонимской — хочу узнать, что же в самом деле находит Иригонников, ведь, по словам Михаила, она вызвала его. Дуся отвечает как-то странно, она Иригонникова не видела, советует мне самой позвонить ему. Звоню, хоть был уже двенадцатый час ночи.
Иригонников повторяет то же, что сказал Михаил. Спрашиваю — насколько серьезна болезнь, нужно ли мне срочно приезжать. Говорю: «М. М. боится, что я буду его волновать».
Иригонников отвечает тоже странно: «Да, конечно, его нельзя волновать».
Целую ночь провела я без сна, в ужасном состоянии. А на другой день, в пять часов дня, была в Ленинграде.
Михаил заволновался, увидев меня. Стал говорить: «Зачем ты приехала? Ведь мы договорились, что ты будешь завтра звонить». А я совсем спокойно сказала: «Ну, а я приехала. Я так беспокоилась, ночь не спала, и вот — приехала».
Выглядел Михаил хорошо — был даже красивый. Но очень странный — часто отвечал невпопад, казалось — будто он плохо слышит. Или отвечает на свои мысли.
Немного поволновался из-за моего приезда. Потом успокоился. Вечером я кормила его. Прожила в Ленинграде пять дней. Перед отъездом вызвала Иригонникова — он ничем не встревожил меня, не намекнул на серьезность положения, напротив — сказал, что Михаил может вставать, даже выходить на бульвар. А дней через десять (через три недели после заболевания) сможет ехать в Сестрорецк. Не прописал никакого нового лекарства — все то же «черненькое», как называл его Михаил. Мышьяк, который прописал раньше по просьбе Михаила, временно отменил. Настаивал на анализах, на которые Михаил наконец дал согласие.
Ознакомительная версия.