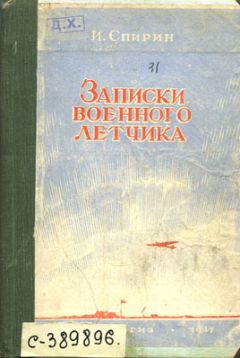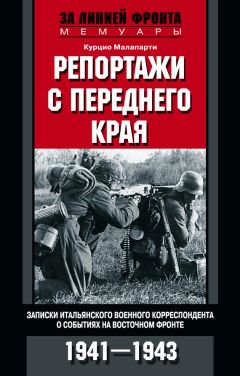Но моя новая роль чуть не погубила меня и среди своих. Была у нас в лагере группа «черных» — мусульман разных наций. Они уверовали в то, что я «скурвился», и решили меня убить. Ночью, в бараке, когда засну. Наши ребята в последнюю минуту узнали об этом и не имели времени притормозить это дело, поэтому только быстренько растолкали меня, а на нары положили сверток тряпья и одеялом прикрыли. Ночью был воткнут в эту куклу нож… Позднее ребята были вынуждены рассказать одному из главных в группе «черных», что я свой, и тот чуть не плакал, моля простить за то, что чуть не убил меня.
Но в целом политика «мимикрии» оправдала себя. Мне удалось принимать участие в операциях «боевиков» вплоть до восстания 1953 года, когда наша группа взяла на себя всю подготовку и проведение его. Мы продержались неделю, но и в эту неделю «Свободной республики Степлага» мы не рискнули расконспирироваться. Все распоряжения штаба появлялись утром в виде листовок на стенах бараков, и руководителей никто не знал. Восстание проводилось в связи с тем, что по случаю смерти нашего корифея по амнистии должны были выпустить и часть политических — тех, у кого сроки до пяти лет. Но на практике отпустили только уголовников, причем и с большими сроками, а политических продолжали мариновать. В том числе и тех, кто должен быть амнистирован по болезни, то есть совсем доходяг.
(Попутно: в марте месяце 1953-го, когда нас в неурочное время выстроили на плацу и скорбно сообщили о кончине «нашего мудрейшего», «нашего гениального» и приказали снять шапки и почтить минутой молчания, мы все начали гоготать, орать «ура», подбрасывая шапки вверх… А когда охранники ринулись наводить порядок, сели в мокрый снег, сцепились руками и под зуботычинами и ударами прикладов не вставали до тех пор, пока самим не надоело базарить… Так мы отметили эту траурную дату).
Восстания осенью 1953-го прокатились по всем лагерям. И хотя доходили слухи, что многие из них кончились плохо, мы все же считали необходимым восстание провести. Подготовка к нему была очень тщательная. Среди нас к этому времени было несколько участников французского Сопротивления и мы использовали их методы борьбы. Имели мы даже рацию, которую перед еженедельным обыском разбирали до винтика и прятали по всей территории, а затем собирали и слушали все, что творится в мире. Иногда и сами выходили в эфир, и западные радиостанции транслировали те скудные сведения о наших лагерях, которые пробивались к ним.
Началось восстание по сигналу, и первым делом были схвачены все «вертухаи» на вышках и вместе с остальной охраной разоружены и выброшены за ворота. Изнутри забаррикадировались и по рации продиктовали ошалевшему начальству свои условия: требуем немедленной и справедливой амнистии для политических. Согласны на переговоры с их представителем и гарантируем его безопасность. Нам очень важно было дать им понять, что мы ни в коем случае не хотим доводить дело до кровопролития. Мы со своей стороны провели операцию по выбрасыванию всего персонала охраны с территории лагеря так «деликатно» и стремительно, что никаких обвинений в причинении физических увечий предъявить нам нельзя. Одновременно с освобождением от охранников мы изолировали и всех тех уголовников, которые могли помешать делу — сунули их в БУР. Разобрали стены между зонами и взяли на учет весь запас продуктов, ввели строгие нормы выдачи. Распределили всех на работы. Ни кухня, ни пекарня, ни мастерские ни на день не прекращали работу. Те, кому не хватило дела, принялись за уборку бараков и территории — без принуждения работа была в охотку. А вечерами проводили лекции, беседы, ответы на вопросы. Специалистов хватало по всем проблемам и отраслям наук. А как слушали, какие диспуты затевались! У нас, правда, и до этого было нечто вроде семинаров — небольшая группа собиралась время от времени ночами и читались подготовленные лекции, рефераты обсуждались. Я был в группе гуманитариев, вместе с филологом М. Щедринским и Мишей Кудиновым[62] — поэтом, переводчиком с французского Ж. Превера[63] и других поэтов. Было среди нас и несколько историков, экономистов. Мы выступали с разработкой своих тем (именно там состоялось первое обсуждение моего понимания социальных потребностей). По окончании все записи, все тезисы (на крохотных бумажках) сжигались, и было всегда тяжело, будто добровольно сжигаешь какую-то часть своей сущности… А в заключение Миша читал стихи — свои и чужие. Знал он их огромное множество. Особенно нравились нам его переводы из Генри Лоусона[64]
«…Гниют арестанты,
Но стражники их
Тоже в тюрьме гниют.
Молчит арестант, и стража молчит
О том, что творится тут.
А тот, кто покинул пределы тюрьмы,
Не смеет о ней рассказать,
Не смеет вспомнить, что столько людей
Безвинно должны страдать».
И еще озорные, о порванных брюках:
«…Если не на что побриться,
Если чистой нет рубашки,
Если ночью вам не спится
От долгов и мыслей тяжких,
Не скажу, что вы счастливец:
К вам нужда полна вниманья,
Но еще вы не знакомы
С черным Демоном Страданья…
У страданья много стадий,
Но всего страшнее муки
От сознания, что сзади
Разорвались ваши брюки…».
И дальше много забавных куплетов. Но я отвлекся…
Так вот. Во время восстания мы, кажется, впервые (и в последний раз в жизни) могли говорить обо всем, о чем думаем, открыто спорить. Было это так непривычно и хорошо, что кто-то рассмеялся и сказал: «Братцы! Ну до чего прекрасная жизнь у нас началась, ну прямо как при коммунизме!..». Парадокс, но это действительно так — там, за забором я тогда чувствовал себя истинно свободным.
Начальство лагерное было вынуждено сообщить в Москву о восстании. Оттуда прислали кого-то из высших чинов для переговоров, так как со своими говорить мы отказались — не верили им, да и знали, что они бессильны выполнить свои обещания. Сначала требовали, чтоб мы открыли ворота и впустили комиссию для переговоров. Мы согласились только на то, чтобы открыть маленькую дверь вахты и пропустить через нее московского представителя, без сопровождающих. Сохранность его жизни гарантировали. Они поторговались и согласились. Запустили мы его — оказался в чине генерала и довольно интеллигентный, судя по речи, человек. Мы выстроились на плацу (повернулись к нему затылками, чтоб не видел, кто ему отвечает и задает вопросы), а он спокойным и усталым голосом объяснял, что наше сопротивление бессмысленно, что напрасно обостряем отношения: задержка с амнистией происходит из-за физической неспособности управиться в короткий срок. Надо пересмотреть и разобраться в тысячах дел, а доверено это лишь специальным комиссиям и их не хватает… В общем, звучало это почти убедительно. Судя по нашим номерам (в шифре их мы разобрались — это были не просто порядковые номера, но в первых цифрах содержалось количество сотен тысяч) — так вот номера эти говорили о том, что количество зэков перевалило за десяток миллионов… Этому большому начальнику можно было даже посочувствовать — действительно трудная работа свалилась на них в связи с кончиной усатого кормчего. Но наши парламентарии взяли слово и аргументировано доказали, что комиссия, которая заседала в нашем лагере, явно благоволила к уголовникам и допустила много нарушений. Тот все выслушал, спросил, какие еще есть жалобы — на всякий случай высказали и их, когда еще такой случай будет! Генерал обещал в ближайшие два дня во всем разобраться и сделать все от него зависящее. Нам же посоветовал подумать и через два дня, когда он снова придет к нам в лагерь и сообщит, что будет предпринято по нашим претензиям, снять к тому времени осаду и прекратить восстание: «Не буду скрывать: лагерь окружен войсками, подогнана танковая часть, и в случае продолжения конфликта будет дана команда навести порядок силой. Подумайте и решайте», — сказал он.