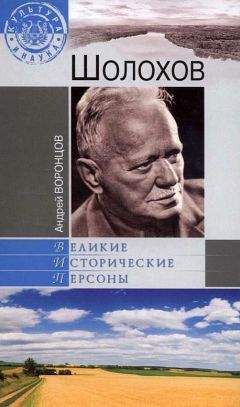11 декабря 1939 года Михаил написал Сталину письмо:
«Дорогой т. Сталин!
24 мая 1936 г. я был у Вас на даче. Если помните, — Вы дали мне тогда бутылку коньяку. Жена отобрала ее у меня и твердо заявила: «Это — память, и пить нельзя!» Я потратил на уговоры уйму времени и красноречия. Я говорил, что бутылку могут случайно разбить, что содержимое ее со временем прокиснет, чего только не говорил! С отвратительным упрямством, присущим, вероятно, всем женщинам, — она твердила: «Нет! Нет и нет!» В конце концов я ее, жену, все же уломал: договорились распить эту бутылку, когда кончу «Тихий Дон».
На протяжении этих трех лет, в трудные минуты жизни (а их, как и у каждого человека, было немало), я не раз покушался на целостность Вашего подарка. Все мои попытки жена отбивала яростно и методично. На днях, после тринадцатилетней работы, я кончаю «Тихий Дон». А так как это совпадает с днем Вашего рождения, то я подожду до 21-го, и тогда, перед тем как выпить, — пожелаю Вам того, что желает старик из приложенной к письму статейки. Посылаю ее Вам, потому что не знаю, — напечатает ли ее «Правда».
Ваш М. Шолохов.
Вешенская 11.XII. 39».
Старик из этой статьи желал Сталину побольше здоровья и еще прожить на белом свете столько, сколько прожил. Статья называлась «О простом слове». В ней рассказывалось о двух телеграммах Сталина, присланных в ответ на просьбу Михаила помочь хлебом пухнущим от голода колхозникам Верхнего Дона (правда, вместо себя Шолохов из скромности выставил некую «группу партийных работников»), и о том, как в одном из колхозов, на собрании, председатель предложил утвердить длинную резолюцию, в которой, по обычаю того времени, пространно и немного выспренно говорилось о том, как собрание благодарит товарища Сталина за оказанную помощь и какие обязательства оно на себя берет. Но тут выступил старый колхозный кузнец и сказал:
— Ничего этого не надо. Надо написать Сталину одно словечко — «спасибо». Он все поймет…
Именно такая резолюция — «Спасибо товарищу Сталину» — была принята большинством собрания вместо многословной председательской.
А дальше Михаил писал, как бы продолжая тот спор, что начался между ним и Сталиным 24 мая 1936 года: «Народ любит своего вождя, своего Сталина, простой и мужественной любовью и хочет слышать о нем слова такие же простые и мужественные. Но мне кажется, некоторые из тех, кто привычной рукой пишет резолюции и статьи, иногда забывают, говоря о Сталине, что можно благодарить без многословия, любить без частых упоминаний об этом и оценивать деятельность великого человека, не злоупотребляя эпитетами».
Сталин прочитал статью и, ничего не поправив в ней, отправил ее в «Правду», где она была и напечатана 23 декабря. В ней впервые в советской печати прозвучало слово «голод» по отношению к событиям 1933 года.
«Тихий Дон» Шолохов завершил только через месяц, 29 января 1940 года. Григорий Мелехов так и не стал большевиком. Русский эпос заканчивался словами:
«Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына…
Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».
На второй день после начала войны Михаил, полковой комиссар запаса, послал в Москву телеграмму с просьбой зачислить в фонд обороны Сталинскую премию, врученную ему весной, и заявил о готовности в любой момент стать в ряды Красной армии. Его откомандировали в распоряжение Совинформбюро. В августе 1941 года он выехал на смоленское направление Западного фронта в качестве военного корреспондента «Правды» и «Красной звезды».
…Шолохов, Фадеев и Евгений Петров, соавтор покойного Ильфа, возвращались лесом из расположения части, где участвовали в допросе пленных немцев. Было уже темно. Они шли гуськом вслед за провожатым, по пояс в белом болотном тумане. Михаил вспоминал немцев, как они брели к блиндажу, нехотя переставляя ноги, обутые в короткие, измазанные желтой глиной сапоги. Один из них — пожилой, со впалыми щеками, густо заросшими каштановой щетиной, шел с выражением покорности судьбе на лице, но, поравнявшись с ними, одетыми в офицерскую форму, вдруг сверкнул на них волчьим взглядом исподлобья и тут же отвернулся, делая вид, что поправляет подвешенную к поясу каску.
— Ты видел, как он посмотрел? — зашептал Михаилу Фадеев. — Помнишь то место у Толстого, когда затравили волка, связали его, вставили палку в зубы и приторочили к седлу? Он так же смотрел, «дико и в то же время просто».
Фадеев на войне сильно изменился, словно с него пластами отваливалась вся та дрянь, что наросла на него в РАППе. Неслучайно лучший свой роман, «Молодая гвардия», он напишет во время войны.
Плененные немцы удивили Михаила тем, что в их поведении и словах сквозила какая-то искренняя обида. Они вели себя, словно были цивилизованные, едущие по своей надобности в Москву люди, попавшие в лапы разбойников с большой дороги. Глядя на их хорошие манеры, испуганно-вежливые улыбки, сдержанные жесты, можно было подумать, что это действительно так, что они жертвы обстоятельств, заложники большой политики, кабы не помнил Михаил фашистскую демонстрацию в Тиргартене, озверевшие морды штурмовиков в пикетах вокруг кинотеатра, кабы не видел в одной деревне труп одиннадцатилетней девочки, изнасилованной немцами, а в другом месте, в овраге — восемь крупно порубленных, как на схеме в мясной лавке, тел красноармейцев и аккуратную стопку их пилоток, сложенных одна на другую… Хищные латиняне, вскормленные молоком волчицы…
— Стой, кто идет? — послышалось из тумана.
Провожатый сказал пароль, и часовой пропустил их. Простились с провожатым, нашли свой шалашик, покурили перед сном, пряча огоньки папирос в ладонях, а потом, расстегнув пояса, полезли на четвереньках внутрь, в остро пахнущую хвойной сыростью тьму. Захрустел лапник, зашелестели плащ-палатки. Несколько минут устраивались, ворочались, кашляли. Потом наступила тишина. Первым ее нарушил Фадеев.
— Ну, как тебе информация? — вполголоса спросил он у Михаила.
— Снаряжение у них неплохое, ничего не скажешь, — так же тихо отозвался Шолохов.
— Главное у них — танки, правда? — зашептал технократ Петров.
— Только не те их снаряжают! — воскликнул Михаил.
— Ты о чем? — спросил Фадеев.
— Пленных видел?
— Ну?
— За что им сражаться? За «жизненное пространство на Востоке»? Они столько уже этого пространства захватили в Европе, хоть задницей ешь. Высокие материи, идейность? Нет у них этого ничего. Надрессированные машины… А столкнутся с настоящей войной, получат по зубам, и просыпается у них из всего человеческого только одно — желание жить. Это не отберешь ни у кого… Только зачем же до этого доходить через войну? Как это сегодня сказал их лейтенант: «Душу в сейф — и ключ в карман до конца войны»…