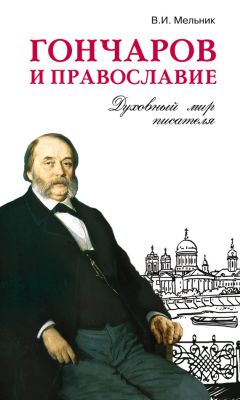Чичиковская тень мелькает уже в «Обыкновенной истории» и «Обломове», но лишь в «Обрыве», где поднята тема «живых» и «мертвых» душ, параллель приобретает устойчивость. Аянов и Чичиков стремятся не к выработке «нормы жизни», а к «выделке» своей среды «обитания». Они схожи во многих планах. Чичиков «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок» и т. д. Об Аянове автор пишет: «Он — так себе: ни характер, ни бесхарактерность, ни знание, ни невежество, ни убеждение, ни скептицизм». Однако феномен чичиковщины претерпел во времена Гончарова историческую метаморфозу. Чичиков силится скрыть свои страсти, чтобы быть человеком «без углов», в то время как Аянов действительно бесстрастен, равнодушен. И в этом равнодушии его сила.
О Чичикове сказано: «Приезжий во всем как-то умел найтиться и показать в себе опытного светского человека». Об Аянове: «На лице его можно было прочесть покойную уверенность в себе и понимание других, выглядывавшее из глаз». «Пожил человек, знает жизнь и людей, — скажет о нем наблюдатель…» Если Чичиков, «шла ли речь о лошадином заводе… говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания» и т. д., то и Аянов — «следил за подробностями войны, если была война, узнавал равнодушно о перемене английского или французского министерства, читал последнюю речь в парламенте… всегда знал о новой пьесе и о том, кого зарезали ночью на Выборгской стороне»… Оба всегда «в курсе» дела, оба обладают ложной «многосторонностью».
Чичиков и Аянов активно общаются с людьми, но основа этого общения — мертва, бездуховна, отдаляет от человеческого, а не приближает к нему. Чичикову «ни одного часа не приходилось… оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть». У Аянова «утро уходило… на мыканье по свету, то есть по гостиным, отчасти на дела и службу, — вечер нередко начинал он спектаклем, а кончал всегда картами в английском клубе или у знакомых, а знакомы ему были все».
Кстати о картах. Аянов позаимствовал у Чичикова манеру поведения за карточным столом. Чичиков «спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: „вы пошли“, но: „вы изволили пойти“, „я имел честь покрыть вашу двойку“ и тому подобное». Карты для гоголевского героя — способ войти в круг малознакомых людей, завоевать их доверие. Для Аянова карты то же, что и служба, с их помощью он надеется «повыситься в тайные советники». Отсюда и «чичиковская» манера игры: «В карты он играл без ошибки и имел репутацию приятного игрока, потому что был снисходителен к ошибкам других, никогда не сердился, а глядел на ошибку с таким же приличием, как на отличный ход». Гончаров не случайно употребляет определения, какими пользовался Гоголь, характеризуя Чичикова: «приятный игрок», «приличие». Отсюда же «умеренные движения, сдержанная речь и безукоризненный костюм» (уж не наваринского ли дыму с пламенем?) Аянова.
Аянов — творческое переосмысление образа Чичикова. Имея те же цели, что и Чичиков («повыситься в тайные советники и бросить якорь в порте, в какой-нибудь нетленной комиссии или комитете, с сохранением окладов, — а там волнуйся себе человеческий океан, меняйся век, лети в пучину судьба народов, царств, — все пролетит мимо его…»), он во главу угла ставит уже не авантюру, не действие вообще, не скрытую страсть как двигатель поступков, но наоборот — полное бездействие и равнодушие. Маска бесстрастности Чичикова у Аянова сменилась истинным бесстрастием, отсутствием «задора». Аянов — представитель пустой формы, лишенной содержания. «Бытовой демонизм» Чичикова, имевшего свою «идею», «тайну», заменяется полной приземленностью: «В душе Ивана Ивановича не было никакого мрака, никаких тайн, ничего загадочного впереди, и сами макбетовские ведьмы затруднились бы обольстить его каким-нибудь более блестящим жребием или отнять у него тот, к которому он шествовал так сознательно и достойно». Чичиков, прикрывая свои цели, вынужден был надевать маску равнодушия, Аянов действительно равнодушен, он еще более «мертв», чем гоголевский герой. Изображая борьбу «живого» и «мертвого» (эти эпитеты буквально пронизывают текст) в «Обрыве», Гончаров творчески использовал художественный опыт Гоголя.
Существует мнение, что в «Евгении Онегине» Татьяна живет по церковному календарю и что в финале романа она плачет над письмом Онегина в пустом доме — перед исповедью в Страстной Четверг, Но Пушкин не говорит об этом прямо: религиозный подтекст романа лишь аналитически прочитывается (Даниленко Борис, прот. Православное богослужение в русской литературе // Духовный потенциал русской классической литературы. М., 2007. С. 23–24).
Эйхенбаум Б. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л., 1924. С. 93.
Спасович В. Д. Байронизм у Пушкина и Лермонтова // Вестник Европы, 1888, № 4. С. 534.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С.133.
Гончаров И. А. Собр. соч. В 8-ми томах. Т. 8. М., 1955. С. 94.
Спасович В. Д. Указ. соч. С. 530.
Цит. по кн. Пестов Н. Е. Современная практика православного благочестия. В 2-х томах. Т. 1. СПб., 2002. С. 200.
Там же. С. 201.
Литературное наследство. Т. 102. М., 2000. С.158.
Литературное наследство, Т. 102. М., 2000. С.158.
Трубецкой Е. И. Умозрение в красках. М., 1916. С. 25–26.
Следует учесть, что Гончаров прекрасно знал лермонтовскую поэму, а кроме того — и всю «демоническую» традицию мировой литературы вообще. В 1859 году Гончаров являлся цензором издаваемого С. С. Дудышкиным собрания сочинений Лермонтова. Как цензор Гончаров содействовал восстановлению ряда ранее исключаемых мест в поэме «Демон». В его отзыве, в частности, говорилось: «Что касается до образов ангелов, демонов, монашеской кельи, послуживших, может быть, поводом тогдашней цензуры к запрещениям, то, не говоря уже о сочинениях Мильтона, Клопштока и других, стоит вспомнить „Ангел и Пери“, поэму Баратынского, „Абадону“, перевод Жуковского, „Чернеца“ Козлова, „Русалку и монаха“ и многие стихотворения