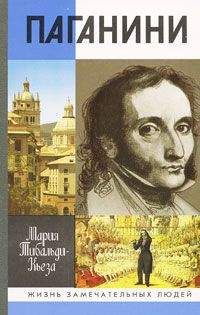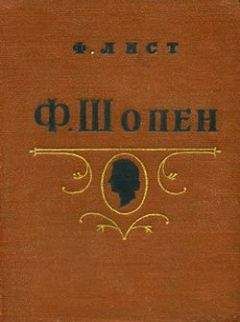Сивори, будучи последователем Паганини, вполне возможно, знал особый метод преподавания своего великого учителя. Но он никогда не раскрывал его, как не сделал этого и Чанделли.
Многие почитатели скрипки, от Гура до наших дней, пытались понять загадку этого знаменитого секрета Паганини. Зигфрид Эберхардт, Жарози, Мантовани, Копертини, Сфилио написали трактаты и изложили методы, основанные на раскрытии секрета Паганини. Некоторые цитировали то, что он говорил Шоттки по поводу маэстро Джакомо Коста:
«С удовольствием вспоминаю заботу доброго Коста, которому сам я, однако, не доставил особой радости, поскольку его принципы мне часто казались противными натуре и я не соглашался принять его способ ведения смычка».
И они делали из этого вывод, безусловно, приближаясь к истине: метод Паганини должен был позволить ученикам очень легко и очень быстро научиться игре на скрипке, потому что в его основе лежало использование природных способностей руки, а не заучивание противных натуре позиций, трудных оттого, что они неестественны и форсированны.
Исследователи хотели также выяснить аппликатуру Паганини, пытались применить аппликатуру, соответствующую природным возможностям руки, спорили о том, насколько необходимы диатонические и хроматические гаммы на первых порах обучения.
Несомненно, у Паганини имелся свой превосходный метод, но самое главное – он оказался превосходным прежде всего для него самого – для его исключительной личности и натуры. Иные принципы, установленные Паганини в ходе его занятий и собственного опыта, конечно, могли бы помочь ученикам среднего уровня, с нормальными способностями. Но некоторые вещи годились только для него самого и оставались неприемлемыми для обычных учеников.
Кроме того, секрет Паганини оказался двойным: секрет метода, то есть секрет обучения, который мог быть раскрыт и передан, и секрет его звучания – его личный, индивидуальнейший и непередаваемый.
Конестабиле пишет:
«Искусство Паганини – это совершенно особое искусство, которое родилось только с ним и секрет его он унес с собой в могилу. Сам он, тоже называя это секретом, конечно, не хотел выдавать его ни знатокам, ни любопытным.
Он долго лелеял мысль изложить свой метод игры на скрипке на нескольких страницах, которые, как он говорил, изумили бы всех скрипачей. Владея этим секретом, которому не обучить ни в какой консерватории, молодой человек при желании мог бы достичь совершенства в игре на скрипке самое большее за три года, тогда как любым другим способом ему понадобилось бы для этого лет десять.
Паганини часто спрашивали в связи с этим, серьезно ли он говорит или шутит, и он неизменно отвечал: „Клянусь вам, что говорю правду и поручаю вам, – добавлял он, обращаясь к Шоттки, – особенно подчеркнуть это, когда будете писать мою биографию“».
В статьях современников часто отмечается, что звук Паганини был необыкновенно красив и трепетная вибрация струн придавала ему горячее волнение живого человеческого голоса.
Вот мы и подошли к самому прекрасному свидетельству Гура. В своей статье он пытался вскрыть секреты скрипача, объясняя его мастерство и технические приемы. Но имелся еще один секрет – секрет, который невозможно открыть. Это манера игры Паганини, совершенно своеобразная, ни с чьей не сравнимая не столько приемами и необыкновеннейшей техникой, сколько своим происхождением, сложным, загадочным внутренним миром музыканта, его впечатлительностью, его личностью.
Впечатления и чувства, которые скрипач пробуждал в сердцах людей, Гур понимал это, были его собственными. В них отражались его бурная бродячая жизнь, его огорчения, радости и страсти, тщеславие – все, что заставляло трепетать его сердце, отчего ускорялся его пульс, что переворачивало его душу. Играя, говорил Гур, Паганини забывал обо всем на свете, и его жизнь возрождалась в его музыке со всеми ее страданиями и мучениями, радостями и наслаждениями.
И все-таки «Журналь де Франкфурт» 3 апреля 1831 года написал:
«До сих пор мы ограничивались тем, что воздавали должное необыкновенному таланту Паганини, который он раскрывал, играя на своей скрипке. Но, если не считать знатоков, от которых ничего не ускользает, публика не очень замечала, что его музыка блистала оригинальными красотами. Его концерт в страстную пятницу открыл эту истину даже не очень опытным слушателям. Он исполнил интродукцию, которую можно назвать религиозной и которую все единодушно признали „небесной“. Чтобы создать мелодию столь нежную, столь проникновенную, нужно переживать высшую степень восторга, воодушевления – быть в экстазе, нужно услышать, как поют сами ангелы… Подобные шедевры не могут погибнуть, потому что рождены самым глубоким человеческим чувством».
И вместе с анонимным автором статьи многие современники, и среди них Мендельсон, утверждали, что никогда Паганини не вызывал такого волнения, как исполняя чистые, ясные мелодии, нежные, печальные. Когда из его скрипки и глубин его души возносилась и медленно поднималась на крыльях гармонии песнь, он достигал вершин творчества. Это проявлялось великое искусство итальянских вокалистов, искусство несравненных певцов XVIII века, которое он унаследовал и, преобразив, перенес на скрипку.
Об этом говорил и Франц Шуберт, и его слов достаточно, чтобы ответить всем и возразить всем: «В Адажио я слышал пение ангела».
Но имелась еще одна причудливая и прихотливая сторона характера Паганини, которая выражалась в необузданной виртуозности, в неописуемой звуковой акробатике.
Накаленной материи, кипевшей в горниле его воображения, не терпелось вырваться и выразиться в смелости рапсодических творений, в фиоритурах, в тех украшениях, в тех каденциях (тоже созвучных с виртуозностью итальянского пения), которые оказались чудесным созданием волшебника, возникающим в краткий миг и столь же быстро исчезающим навсегда.
Легчайшие флейтовые звуки, молниеносные извивы трелей, жемчужные ноты арпеджио – все это он пригоршнями разбрасывал вокруг себя, словно каскады сверкающих бриллиантов. Ослепительный блеск длился мгновение и угасал, ослепив взгляд и восхитив душу.
Музыка в исполнении Паганини безвозвратно ушла вместе с ним. Произведения, бесподобные в его исполнении, у других звучали грубо, нестерпимо. Эта часть искусства и творчества Паганини действительно, как говорит Фетис, родилась и умерла вместе с ним.
В виртуозности Паганини некоторые усматривали совершенно сознательную уступку вкусам публики и времени. Несомненно, Паганини хорошо разбирался в жизни и людях и оставался, в сущности, скептиком. Опыт неизбежно разрушает иллюзии.