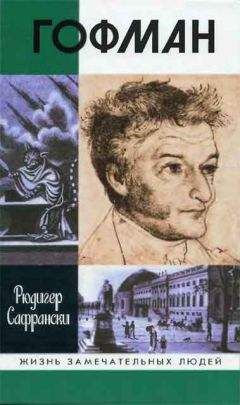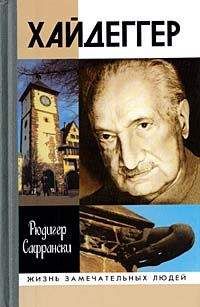В своей шестой книге «Поэзии и правды» Гёте рассказывает о неком франкфуртском оригинале, советнике и архивариусе Иоганне Бернгарде Креспеле. Этот сторонившийся людей, временами циничный, но восторженно относившийся к искусству человек пренебрегал всеми обычаями и условностями, идя своим путем, в том числе и при строительстве дома, о чем мать Гёте писала сыну в Веймар: «Креспель строит дом по собственному проекту, не пригласив ни каменщиков, ни плотников, ни столяров, ни стекольщиков — он все собирается делать сам, и дом у него получится как его штаны, которые он также шьет сам».
Гофман был знаком с книгой Гёте. Видимо, от Брентано узнал он и об этой причудливой самодостаточности. Во всяком случае, его советник Креспель строит дом столь же необычным образом. Возможно, Гофман вспоминал также о Брентано, когда писал о Креспеле: «Что у нас остается в мыслях, то Креспель целиком воплощает в дело», поскольку Брентано будто бы сказал о себе самом, что он такой человек, который «непременно выскажет любую хоть сколько-нибудь стоящую мысль».
Советник Креспель у Гофмана — странный персонаж, «коего природа или судьба лишили покрова, под прикрытием которого прочие люди незаметно совершают свои сумасбродные выходки». Его «сумасбродная выходка» состоит в таинственном обхождении с красивой молодой женщиной, которую он запер в доме и которой запрещает петь. Однажды ночью на улицах послышалось «неземное по красоте своей» пение, которое внезапно и, похоже, насильственно оборвалось. О Креспеле было известно лишь то, что он разбирал старые скрипки, а затем выбрасывал. Подоплека этой истории постепенно выходит наружу. Молодой женщиной оказывается Антония, дочь Креспеля. Она талантливая певица, но поражена неизлечимым недугом. Врач сказал, что Антония умрет через шесть месяцев, если совершенно не откажется от пения. Поэтому-то Креспель, который обычно аккомпанировал на скрипке своей любимой дочери, и следит за тем, чтобы этот умирающий лебедь впредь хранил безмолвие. Ради ее жизни он отказывается от красоты пения, действующего столь губительным образом.
Здесь звучат бамбергские реминисценции. Мы знаем, что консульша Марк упрекала Гофмана за то, что преподаваемый им метод пения будто бы подрывает здоровье Юлии. Искусство, подтачивающее тело и жизнь, — такова химера, вокруг которой строится и рассказ Гофмана о Дон Жуане: певица, исполняющая партию донны Анны, умирает после своего блестящего выступления. Креспель же принимает решение против искусства, в пользу сохранения жизни. Отрезанный от живого искусства, он ищет утешение в рукотворном анализе: он разбирает инструменты, чтобы постигнуть тайну прекрасных звуков, разрушая при этом то, что ищет. И все же Антонию не удается спасти: во сне он слышит, как она поет, а проснувшись, находит ее мертвой.
Там, где Гофман пытается примирить искусство и жизнь, он охотно прибегает к обращенной в прошлое утопии. На примере старых немецких мастеров (Дюрер во «Враге» и мастер Мартин в одноименном рассказе) он показывает, как коренящиеся в ремесленных навыках способности, встречающие признание и в бюргерской среде, поднимаются до уровня искусства, не отрываясь при этом от почвы общественной жизни и бюргерской морали. В этом мире Ганса Сакса он открывает контекст жизни, которому еще неведомы разобщение в результате одностороннего подхода и энтузиазм через самоотречение и который еще сохраняет в бюргере художественный смысл, а в художнике — бюргерский. Еще Новалис в своем «Генрихе фон Офтердингене» изобразил старинный Аугсбург в этом духе примирения искусства и жизни. Рихард Вагнер позднее подхватит в своих «Мейстерзингерах» ту же утопию, прежде чем примется за создание нового мифа об искусстве, водворяющем единство. Однако этот тип мастеров у Гофмана уже подвергается угрозе: в рассказе «Враг», который Гофман диктовал на смертном одре и не успел закончить, вокруг Альбрехта Дюрера плетется таинственный заговор сил бездны.
Но к этому типу мастеров принадлежит и златокузнец Кардильяк из «Мадемуазель де Скюдери» — одна из самых зловещих фигур среди литературных персонажей Гофмана. Этот рассказ уже после первой публикации в карманном издании встретил восторженный прием со стороны публики и принес автору в качестве подарка от обрадованного издателя ящик вина. Сюжет его известен: в Париже времен Людовика XIV совершается серия загадочных убийств. Придворная дама мадемуазель де Скюдери берет на себя роль детектива. Ей удается то, в чем не преуспели со всей своей проницательностью криминалисты и судейские — обнаружить убийцу. Им оказался златокузнец Кардильяк, крупнейший в то время мастер своего дела, клиентами которого были представители высших кругов Парижа. Однако именно это и толкало его на совершение убийств. Ему нестерпимо было сознавать, что созданные им произведения искусства, в которые он вкладывал всю свою любовь и мастерство, попадают в чужие руки, к людям, которые используют их лишь для удовлетворения своего тщеславия и тяги к роскоши, а также в качестве вспомогательных средств при своих галантных похождениях. Эта тема часто варьируется в творчестве Гофмана. Его кавалер Глюк говорит: «Я открыл священное непосвященным»; искусство проституируется, становясь продажным. Возникает драматическое несоответствие между тем, чем искусство является для художника, и тем, что оно значит для широкой публики.
Еще в «Крейслериане» Гофман находил удовлетворение в том, чтобы поносить публику. Тон его произведения дал Жану Полю повод заметить в предисловии к «Фантазиям в манере Калло»: «Художник — например, наш автор — может очень легко скатиться от любви к искусству к человеконенавистничеству, используя розовые венки искусства в качестве терновых венцов и поясов с шипами, вознамерившись карать».
В «Мадемуазель де Скюдери» поношение публики переходит в серийное ее уничтожение. Художник, выступая в роли одинокого мятежника, пытается с помощью кровопролития разорвать тот контекст жизни, в котором его искусство, являющееся для него наивысшей целью, низводится до положения простого средства. Здесь конфликт между искусством и жизнью выливается в серию убийств.
Однако в этом рассказе речь идет не только об экстремальной патологии души художника. Важной проблемой является также контраст между понимающим взглядом, даже в этом безумии открывающим потаенную логику, и той юридической беспомощностью, которая перед лицом этого феномена пасует или же прибегает к бесцеремонной расправе.
Как и в «Эликсирах сатаны», здесь познавательные возможности юриспруденции при столкновении с безднами души предстают в весьма неблагоприятном свете. Мы знаем, что Гофман как художник любил заглядывать в бездны. И в качестве юриста он предпочитал такие случаи, в которых приходилось иметь дело с безумием и страстью, с щекотливым вопросом о «невменяемости». Как он поступал при этом? Как взаимодействовал опыт поэта со знаниями юриста? На этот вопрос поможет ответить случай Шмоллинга.