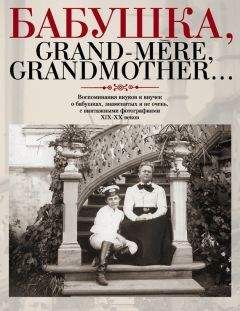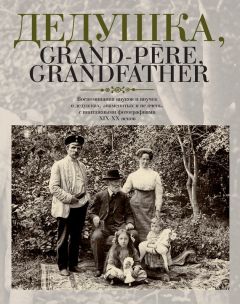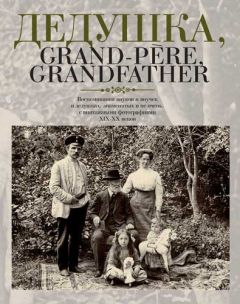Ознакомительная версия.
Образ прабабушки соединяется в моем воспоминании с образами двух-трех кадет, которых я страшно боялась. Слова: «Позови Колю Шелгунова пить чай», – приводили меня в трепет. Я не помню, вследствие чего кадет Шелгунов возбуждал во мне такой страх, но знаю только, что я его очень боялась.
Другой кадет морского училища, Кадьян, остался у меня в памяти, потому что он съел сразу сто домашних сухарей, только что испеченных. Сухари были поданы на стол, и когда бабушка, вышедшая за чем-то, вернулась, то на дне сухарницы она увидала только один сухарь и стала спрашивать, куда девались сухари? Бедный Кадьян страшно покраснел и молчал. Сцену эту прекратила моя мать, вероятно, догадавшаяся, в чем дело, и сказала: «Их съели, вот и все». Похороны прабабушки я тоже помню, и в особенности помню, что на них из Смольного монастыря привезли мою тетку Анну Егоровну. Я глаз не спускала с бледной смолянки и с классной дамы, которая ни на шаг не отходила от нее. Капор и салоп смолянки и тогда представлялись мне каким-то уродством. Смерть прабабушки Шелгуновой оставила в квартире одну лишнюю комнату, и в эту комнату переехала старинная знакомая бабушки Лизавета Ивановна
Шахова, фрейлина в отставке. Вставала эта фрейлина очень поздно, и в то время как горничная чесала ее перед большим зеркалом, я садилась рядом с ней на стул и, болтая ногами, жадно слушала рассказы размалеванной руины. Волос на голове у нее было уже очень мало, но, несмотря на то что Шахова была девица, она носила чепец из кружев и лент. Многочисленные же морщины свои она замазывала белилами, на которых выводила брови, и затем на щеки накладывала два розовых пятна, точь-в-точь как было у моей куклы. Рассказывала она мне о своей жизни во дворце, и дворец мне представлялся таинственным замком со страшным государем. При котором из государей Шахова была фрейлиной, я не знаю, потому что, рассказывая, она всегда говорила просто о государе. Главную роль играли большие коридоры, куда за ней выбегал государь, и «ах! ах! ах!» вздыхала она, закатывая глаза и затем томно потупляя их. Бабушка с презрением говорила: «Нашла, кому хвастаться! пятнадцатилетней девочке…»
Бабушка и муж ее, бригадир, настолько боялись дворцовой жизни, что не дали разрешения матери моей, получившей в Смольном первый шифр, поступить в фрейлины как любимице императрицы Марии Феодоровны.
После смерти прабабушки дочь ее, Аграфена Ивановна, мать нашей матери, взялась за воспитание моих братьев и меня. Аграфена Ивановна Афанасьева была вдовою полковника, командира артиллерийской бригады, которого она никогда иначе не называла как бригадиром. Бабушка была очень хороша собою и очень представительна. Она с утра одевалась в корсет и одевалась всегда очень мило. Строгое и нравственное воспитание было ее коньком. Старшую дочь свою она высекла за то, что та, будучи десяти лет, при нескольких офицерах громко выразила за обедом свое мнение о двух мухах. После этого происшествия из дому были изгнаны все животные мужского рода. Оставшись вдовою, бабушка получила казенное место в Александровском корпусе, где и воспитывался ее племянник Шелгунов. Первые мои уроки чтения у бабушки были ужасны. Несмотря на все мое прилежание и старание, грамота мне не давалась. Я не понимала, чего от меня хотели. Бабушка осталась мною очень недовольна и, связав розгу, положила ее на зеленое сукно ломберного стола, за которым я училась. «Не будешь понимать, так я высеку», – сказала она.
После такого обещания я совсем поглупела и все думала о несправедливости бабушки, которая не ценит моего старания. Во время урока с розгой в комнату вошла моя мать.
Мать моя была очень умная женщина. В Перми знакомство с сосланными туда Герценом и Оболенским заставило ее много заниматься и читать, и она была действительно передовой женщиной, до семидесяти лет сохранившей свежесть взглядов и сочувствие всему молодому. Как-то Тургенев говорил мне, что он не понимает молодости, но уверен, что она права, так и мать моя не всегда понимала молодежь, но всегда оправдывала ее. Увидав розгу, лежавшую передо мною, мать моя тотчас же спросила, что это значит. Я слушала начавшийся между матерью и дочерью педагогический спор и поняла только последнюю фразу своей матери: «Если не понимает, значит, учить стали слишком рано».
Я была отпущена бегать и, кроме того, слышала, как мать просила бабушку не сечь ее детей.
Должно быть, это говорилось только обо мне, потому что вскоре произошло у нас такое событие. Второй брат мой, мальчик лет восьми, все вертелся около бабушкиного комода и несколько раз взлезал на него, причем ложился животом на комод, и мне снизу видны были только его поднятые вверх ноги в белых чулках и башмаках. В этот день бабушка ждала к обеду гостей, и на комоде стояло большое блюдо с пирожным.
Вскоре мы узнали, зачем Саша лазил на комод. Предполагая, что если он съест одно целое пирожное, то преступление его сейчас же будет открыто, он распорядился гораздо благоразумнее и от каждого пирожного отгрыз по кусочку. Следствие было произведено; бабушка высказала приговор: высечь, – и бедного шалуна повели на расправу. Посреди комнаты была поставлена маленькая скамеечка, и на нее положили брата, спустив штанишки. Я в ужасе прижалась к стене и, по приказанию бабушки, смотрела на казнь преступника. Бабушка уже взяла розгу из рук крепостной девушки Домны, как вдруг явилась избавительница в лице отвратительной рыжей собачонки Бижутки. Увидав, что хозяйка ее занесла руку с розгами над мальчиком, который всегда с нею играл и ласкал ее, Бижутка с быстротой молнии прыгнула на преступника и, растянувшись на нем, с визгом приняла удар розгами. Бабушка своих детей не любила так, как она любила Бижутку. Руки у нее опустились. Она начала гнать собаку, но собака на нее огрызалась. Это страшно огорчило бабушку. В конце концов, собака таки отстояла Сашу, и экзекуция не совершилась. Это было мое последнее знакомство с розгами. С тех пор у нас в доме о розгах не говорили. Но бабушка до конца дней своих осталась верна своей системе воспитания и, приехав через много лет в Петербург и узнав, что я написала повесть, она вскричала: «Это в шестнадцать-то лет! Высечь ее надо, больше ничего!» Должно быть, это на меня подействовало. Я повесть сожгла и бросила писать лет на пятнадцать – двадцать. Бабушка всего лучше сохранилась в моей памяти с своими рассказами в зимние вечера. Вечером, после чая, с круглого стола убиралась скатерть, и на диван с выпуклой спинкой красного дерева и с твердым сиденьем, обитым жесткой, колючей волосяной материей черного цвета, садилась бабушка, полная, свежая, румяная, в круглых очках с толстой оправой, и работала что-нибудь на руках – днем же она всегда вышивала в пяльцах. Перед нею ставилась сальная свеча в медном подсвечнике, а поодаль – другая сальная свеча в таком же подсвечнике и между свечами жестяной выкрашенный лоточек со щипцами, которыми снимали нагар со свечей. В гостиной же у нас стояли восковые свечи в серебряных подсвечниках. Там, впрочем, на пред диванном столе стояла даже лампа, высокая, как каланча. По одну сторону бабушки сидела всегда ее крепостная девка Домна, рябая и круглолицая. Волосы у нее гладко заплетались в две косы и завязывались кругом головы. Домну я всегда помню в голубом полосатом тиковом платье и с короткими рукавами в виде буф. Она была рукодельницей и сидела всегда за вышиваньем. По другую сторону сидела ходившая за нами, детьми, девушка Оленька, которая до смерти своей прожила в нашей семье. Оленька занималась починкою наших костюмов. Тут же сидела кухарка, тоже за работой, но личность кухарки совсем стерлась из моей памяти. Затем сидели мы трое. Себя я помню всегда в ситцевом платье с коротенькими рукавчиками в виде буф, с аспидной доской. На доске рисовался обыкновенно дом и труба, из которой идет дым. Дым делался пальцем, и с каждым новым рисунком он увеличивался, наконец, рисунок совершенно исчезал, и вся доска покрывалась сплошными белыми штрихами грифелем. На штрихи эти плевалось, и затем губкой, тряпкой, а иногда и пальцами выводились фантастические узоры, рельефно выделяющиеся по мере высыхания доски. Эти штуки можно было безнаказанно производить только тогда, когда бабушка с жаром рассказывала какой-нибудь эпизод из прошлого; но лишь только рассказ прекращался, то она окидывала стол глазами, смотря поверх очков, и меня тотчас же выводили из-за стола со словами «пачкунья!» и мыли. Для того чтобы пройти в другую комнату, со стола бралась свечка, так как все остальные комнаты стояли неосвещенными. Вымытая пачкунья возвращалась на свое место и снова принималась рисовать дом с трубой.
Ознакомительная версия.