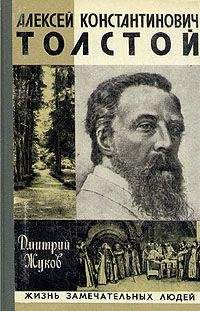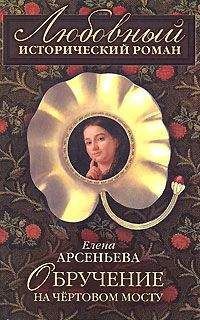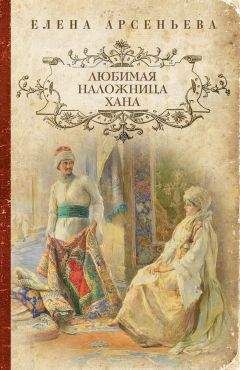Матвеева ревниво подозревала Софью Андреевну в неискренности, в игре по отношению к Алексею Константиновичу и тут же с женской непоследовательностью отмечала, что «ее внимательный уход за Толстым... был очень трогательным». Однажды вечером все перебрались на плоскую крышу. Море успокоилось, искрилось в лунном свете. Толстой уверял, что чувствует себя хорошо, перекидывался с Алексеем Жемчужниковым шутками, забавными воспоминаниями, стихотворными экспромтами.
Вдруг он сказал:
- А что, как вы думаете, вот бы кто-нибудь нам с моря серенаду спел! Хорошо бы!
И вдруг послышался плеск весел. Поравнявшись с домом, гребцы подняли весла, послышались аккорды гитары, и красивый, сильный тенор запел по-русски:
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят...
Толстой встал, взволнованный. Это была его песня. А бархатный тенор все пел:
В очи тебе глядючи, молча слезы лью,
Не умею высказать, как тебя люблю.
«Я взглянула на Толстого, в его глазах блестели слезы», - вспоминала Матвеева. Лодка поплыла дальше.
На другое утро разговор коснулся происшествия предыдущего вечера. Софья Андреевна сочла это каким-то абсурдом. Толстого, видимо, покоробили ее слова, но он ничего не сказал.
Родные Толстого так и не примирились с его женитьбой на Софье Андреевне. Софья Алексеевна Львова вспоминала о покойной матери Толстого, своей сестре:
- Бедная, бедная Анна! Если б она знала!..
Дочь Софьи Алексеевны, Елизавета Матвеева, тоже предубежденно относилась к этому браку, запоминала размолвки между супругами. Ей даже показался странным девиз Софьи Андреевны: «Я ищу, но все подвергаю сомнению». Когда она это сказала, Толстой будто бы очень страдал.
Было это уже в Карлсбаде в 1874 году. На другой день во время прогулки по тенистой дорожке, после того как Толстой выпил свою воду, Матвеева спросила:
- Алеша, ты веришь в бога?
Он хотел было по обыкновению ответить шуткой, но передумал и конфузливо ответил:
- Слабо, Луиза!
- Как! Ты не веруешь! - воскликнула Матвеева.
- Я знаю, что бог есть, но...
- Алеша, ты на себя клевещешь, - перебила его сестра и разразилась длинной тирадой, отчитывая Толстого за то, что он завалил свою веру «всяким хламом».
Тут же она сделала вывод, что во всем виновата Софья Андреевна, которая, однако, была «хороший критик и чутко подмечала все, что касается изящества формы, но она мертвящим дыханием сомнения и неверия глушила порывы души мужа». Она-де и «крылья ему обрезала» в разгар работы над «Посадником». И в то же время она говорит о том, как внимательно слушала Софья Андреевна, когда Толстой читал ей свои произведения. Алексей Константинович боготворил Софью Андреевну и писал ей за два года до своей смерти из Рима: «Во мне все то же чувство, как двадцать лет назад, когда мы расставались - совершенно то же». 28 сентября 1875 года, ровно за три месяца до кончины, он напишет из Карлсбада: «А для меня жизнь состоит только в том, чтобы быть с тобой и любить тебя, остальное для меня - смерть, пустота, Нирвана, но без спокойствия и отдыха».
На нивы желтые нисходит тишина;
В остывшем воздухе от меркнущих селений,
Дрожа, несется звон. Душа моя полна
Разлукою с тобой и горьких сожалений...
В тот год в Карлсбад из Лейпцига приехало какое-то немецкое ученое светило. Толстому захотелось его «огорошить», и он втянул в разговор жену. А разговор шел о древней истории, и уже через полчаса профессор был положен на лопатки. Он только в восторге всплескивал руками.
- В первый раз встречаю такую эрудицию в женщине!
Толстой наблюдал за схваткой с превеликим удовольствием.
Софья Андреевна говаривала, что не любит людей «нараспашку», ей нравилось «отгадывать» таких, про которых нельзя заранее сказать, что он сделает или скажет. Она любила сильные ощущения, то, что, по ее словам, «царапает нервы».
Лечение в Карлсбаде не приносило Толстому облегчения. Лето было жарким, в тесной долине с каждым днем становилось все более душно. И все же он пытался работать. Елизавета согласилась стать переписчицей его произведений и каждый день проводила несколько часов в его кабинете. Подготовку издания книги она начала с лирики, баллад и былин. Толстой предварительно просмотрел все, чтобы не попалось стихотворение, которое, по его мнению, было бы неприлично читать девушке.
Она писала за столом, а он лежал на полу, на матрасе за ее стулом, положив на голову мешочек со льдом. Адски болела голова, но, как только становилось легче, он вставал, садился рядом с сестрой, диктовал, иногда по памяти, часто останавливал запись, менял кое-что. Потом снова бывали такие приступы боли, что он не мог сдержать стона. И тогда он капризничал, ему казалось, что поля узки, что много описок. Переписывая «Алешу Поповича» в пятый раз, Матвеева не сдержала слез. Вошедшая Софья Андреевна тотчас заметила ее красные глаза и напустилась на Толстого:
- Что ты ей сделал? Отчего она плакала?
На другой день Алексей Константинович встретил свою Луизу, стоя на коленях, держа три томика Гоголя на голове (она говорила, что у нее нет сочинений Гоголя).
«Добродетельнейшей Луизе от многогрешного Алексея», - написал он на титульном листе.
В Карлсбад пришел номер итальянского журнала, в котором была помещена статья де Губернатиса о Толстом. «В Италии, - писал критик, - поэт, ходивший на медведя, мог бы показываться за деньги». Он сравнивал Толстого с князем Серебряным и выражал сожаление, что «великий поэт» теперь тяжело болен. Статья кончалась так:
«Желаю, чтобы прежний охотник на медведей и тиранов мог поскорее оправиться и вернуться на поле сражения».
- Берегись, Софа, - сказал Толстой, смеясь, - я уже рукава засучил, сейчас поплюю в ладони и полезу драться.
Толстого (как и Тургенева, других русских) в Карлсбаде лечил доктор Зеген. Жена доктора считала себя писательницей. Она принимала Толстого восторженно, бросалась целовать ему руки, ахала без конца. Он не знал, куда деваться, и говорил потом:
- Она еще хуже Павловой.
Госпожа Зеген мучила его чтением своего романа, Толстому приходилось хвалить...
- А ведь трудно хвалить сахарную водицу, да еще с бантиком! Я не знал, что сказать, даже в пот ударило, - сказал он, вернувшись в гостиницу.
Однажды у Зегенов стали говорить о русских писателях, о том, что нет хороших переводчиков на немецкий и французский языки. Кто-то сказал, что переводить некоторые русские выражения на другой язык трудно - их просто нет. И тогда Толстой сказал, что Софья Андреевна прекрасно переводит с листа, без подготовки. Принесли томик Гоголя. Софья Андреевна долго отказывалась, а потом стала читать по-французски «Старосветских помещиков» быстро, не запинаясь. И все нашли, что ее перевод лучше и точнее уже изданных.