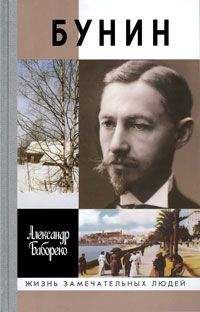При известии об очередном нападении немцев на мирные города и страны или похвальбе «фюрера», что он завоюет мир и установит «новый порядок», Бунин ругал Гитлера «идиотом» и называл его сумасшедшим.
И вот настало 22 июня 1941 года. От исхода событий, начавшихся в этот день, зависели судьбы не только народов Советского Союза, но и всего человечества. Бунин особо, с новой страницы дневника записал поразившую его весть и подчеркнул эти строчки красным карандашом:
«22. VI.41, два часа дня. С новой страницы пишу продолжение этого дня — великое событие — Германия нынче утром объявила войну России — и финны и румыны уже „вторглись“ в „пределы“ ее.
После завтрака <…> лег продолжать читать письма Флобера (письмо из Рима к матери от 8 апреля 1851 г.), как вдруг крик Зурова: „Иван Алексеевич, Германия объявила войну России!“ Думал, шутит, но то же закричал снизу и Бахрах. Побежал в столовую к радио — да! Взволнованы мы ужасно».
На следующий день Бунин услышал по радио ободряющую весть о военном союзе Англии с Россией и спрашивал: а Турция останется, как писали газеты, только «зрительницей событий»?
Двадцать четвертого он прочитал «первое русское военное сообщение» о сражениях с вторгшимися в СССР гитлеровскими войсками.
Бунин встречался с внучкой А. С. Пушкина, Еленой Александровной (в замужестве — Розен-Мейер), дочерью «Сашки рыжего», генерала Александра Александровича Пушкина, героя войны по освобождению Болгарии от турок (1877–1878), награжденного по высочайшему приказу золотой Георгиевской саблей с надписью «За храбрость» и орденом Святого Владимира четвертой степени.
Бунин записал в дневнике 25 июля 1940 года:
«Шестого <июня> был в Ницце… для знакомства с Еленой Александровной Розен-Мейер, родной внучкой Пушкина».
В этот день он встретился с нею. Вера Николаевна «Лену Пушкину» помнила еще «девочкой-подростком в Трубниковском переулке с гувернанткой». Елена Александровна была человеком умным и образованным, знала в совершенстве английский язык и еще французский, арабский и персидский. А характера, должно быть, была, по словам Буниной, нелегкого. Была в ссоре с братом Николаем Александровичем, жившим в Брюсселе.
Четырнадцатого июня 1941 года по приглашению Бунина Пушкина приезжала к нему в Грасс. По словам Г. Н. Кузнецовой, «Иван Алексеевич был с нею особенно внимателен, много расспрашивал о ее семье, о самом Пушкине, о „бабушке“ Наталье Николаевне».
Интересоваться Е. А. Пушкиной у Бунина, помимо всего прочего, были особые причины. Как видно из его дневниковых записей, род Пушкина и род Бунина перекрещивались. Мать Елены Александровны, Мария Александровна, — из Буниных; она была двоюродной сестрой дворянина Павлова, а «дед Павлова по матери, — писал Бунин, — моряк, Иван Петрович Бунин, брат Анны Петровны Буниной», известной поэтессы начала девятнадцатого века.
Е. А. Пушкина жила в большой бедности. Бунин, сам в те годы сильно нуждавшийся, собирал для нее деньги. Он писал из Грасса, — письмо без обращения по имени, — несомненно Б. К. Зайцеву 4 июня 1943 года, надеясь раздобыть для нее небольшие средства (фотокопию этого письма прислал С. М. Лифарь):
«Дорогой друг, три года тому назад со мной познакомилась в Ницце очень скромная женщина в очках, небольшого роста, лет под пятьдесят, но на вид моложе (родилась 16 августа 1889 года. — А. Б.), бедно одетая и очень бедно живущая мелким комиссионерством, однако ничуть не жаловавшаяся на свою одинокую и тяжелую судьбу — Елена Александровна фон Розен-Мейер (Rosen-Meyer), на которую мне было даже немножко страшно смотреть, ибо она только по своему покойному мужу, русскому офицеру, стала фон Розен-Мейер, а в девичестве была Пушкина, родная внучка Александра Сергеевича, дочь „Сашки“, генерала Александра Александровича! И вот нынче ее письмо ко мне:
„2 июня 43 г. Clinique Constance, St. Barthelemy, Nice, A. M.
Милый Иван Алексеевич,
На Пасхальной неделе я чувствовала себя не очень хорошо, а во вторник 4 мая вызванный доктор срочно вызвал в девять часов вечера карету скорой помощи и в десять часов меня оперировали… Думали, что я не выживу и сорока восьми часов, но Бог милостив, видно час мой еще не пришел, я медленно поправляюсь. Вот скоро месяц, как я лежу в клинике; недели через полторы меня выпустят на месяц, а потом мне предстоит вторая операция… Я еще очень, очень слаба, пишу вам, а лоб у меня покрыт испариной от усилия. Обращаюсь к вам за дружеским советом и, если возможно, содействием: существует ли еще в Париже Общество Помощи ученым и писателям, которое в такую трудную для меня минуту помогло бы мне, в память дедушки Александра Сергеевича, расплатиться с доктором, с клиникой, прожить, по выходе из нее, месяц в доме для выздоравливающих графини Грабовской (60 франков в день), а потом иметь возможность заплатить за вторую операцию? Все мои маленькие сбережения истрачены, но как только я встану на ноги, я опять начну работать и обещаюсь выплатить мой долг Обществу по частям. Работы я не боюсь, были бы силы!“
Вот, дорогой мой, какое ужасное и какое трогательное письмо получил я нынче. „Общество“, насколько я знаю, в Париже уже не существует, да если бы оно и существовало, что оно могло бы дать? Грош, а тут ведь не о гроше идет дело. Поэтому горячо прошу тебя обратиться с этим моим письмом к Лифарю, который, надеюсь, поможет Елене Александровне и найдет еще кого-нибудь из лиц состоятельных и понимающих, что ведь это родная внучка Александра Сергеевича. Передай или перешли ему это письмо. Я шлю привет Лифарю и написал бы ему сам, да не знаю, куда ему писать и где он».
Седьмого сентября 1943 года Бунин получил письмо из Ниццы, которым его извещали, что Е. А. Пушкина умерла 14 августа после второй операции.
С нападением фашистской Германии на Советский Союз многое в мире изменилось. Это сразу же почувствовали русские люди за рубежом.
Тридцатого июня 1941 года у Бунина на вилле «Жаннет» появилась полиция. «Опрос насчет нас, трех мужчин, — записал Иван Алексеевич в тот день в дневнике, — кто мы такие, то есть какие именно мы русские. Всем трем арест при полиции на сутки — меня освободили по болезни. Зурова взяли; Бахрах в Cannes, его, верно, там арестовали. Произвели осмотр моей комнаты <…>
Часа в три приехал из Cannes Бахрах, пошел в полицию и должен провести там ночь, как и Зуров. А может быть, еще и день и ночь? На душе гадко до тошноты».
Кузнецова рассказывает об этих событиях:
«Третьего дня утром, услышав звон колокольчика у ворот, выглянула и увидела Рустана — местного комиссара полиции, с каким-то человеком. С ним уже говорил Зуров. Быстро сошла во двор. Оказалось, что он хочет видеть всех живущих в вилле мужчин. Я провела их в салон. Рустан требовал прежде всего Ивана Алексеевича. Когда они с Верой Николаевной сошли, он начал издалека: „Вы белые русские?“ Вера Николаевна ответила: „Мы эмигранты“. Он стал говорить, что получено распоряжение проверить всех русских, то есть пересмотреть их административное положение. Долго не могли понять. В конце концов он должен был сказать, что должен увести всех троих мужчин, живущих в вилле, для проверки их специальной комиссией. Иван Алексеевич был в халате, страшно бледен, и вдруг совершенно как бы перестал понимать французский язык. Я сказала Руста-ну, что Бунин болен ежедневными кровотечениями и никуда идти не может. Рустан тотчас же приказал записать это бывшему с ним чиновнику и сказал, что он берет это на свою ответственность и оставляет на двадцать четыре часа под домашним арестом. Бахраха не было дома, ему велено было явиться в комиссариат, как только он вернется. Пока Зуров ходил наверх собираться, Рустан стал говорить опять-таки осторожно, издалека, что он должен „бросить взгляд на бюро мсье Бунина“. Иван Алексеевич сначала даже не понял и только после повторного объяснения послал его со мной в кабинет, где тот открыл несколько ящиков и портфелей. Обыск был чисто формальным. Рустану самому было, видимо, не по себе, он говорил, что отлично знает, кто такой Бунин, и вообще отговаривался своей подчиненностью властям и полным незнанием, в чем дело. Как бы то ни было, Зурова они увели, сказав, чтобы ему принесли еду в комиссариат. Когда они уехали, мы долго не могли опомниться, но радио уже сообщало о том, что Франция с сегодняшнего дня порывает дипломатические сношения с Советской Россией. Стало ясно, „мера“ была вызвана этим, несмотря на наше заведомое „эмигрантское“ положение и у многих „белый“ стаж» [940].