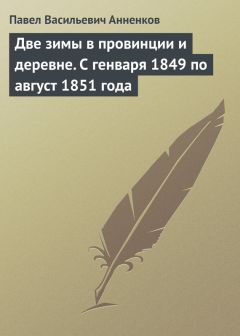Прости, мой друг, обнимаю тебя. Уведомь меня об наших; все ли они еще в деревне. Мне деньги нужны, нужны! Прости. Обними же за меня К[юхельбекера] и Дельвига. Видишь ли ты иногда молодого Молчанова? Пиши же мне обо всей братии».
Элегия, написанная Пушкиным на корабле, есть, по всем вероятиям, стихотворение «Погасло дневное светило…», о котором уже упоминали.
55
«Руслан и Людмила» тоже не принесли автору почти ничего, но второе издание двух первых поэм его уже куплено Смирдиным за 7 тысяч рублей ассигнациями. Кстати будет сообщить здесь анекдот о Н. И. Гнедиче, который был одним из первых и самых жарких поклонников зарождающейся славы Пушкина. По прочтении стихов «Бахчисарайского фонтана»
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи
будущий переводчик «Илиады», один глаз которого, как известно, был поражен давней болезнию, говорил шутя, что готов за них отдать и последнее свое око.
56
См. Вольтера: «Histoire des voyages de Scarmentado». («История путешествий Скарментадо» ( фр. )).
57
Спешим сказать, что со всеми этими стихотворениями не имеет ничего общего одно стихотворение Пушкина, где тоже говорится о юге Европы, об Италии, и всем ее чудесам противопоставляется вдохновенный образ женщины, любующейся ими. Стихотворение это, начинающееся стихами «Кто знает край, где небо блещет…», написано в 1827 году, а сделалось известно только в 1838-м, уже после смерти автора. В рукописи оно носит двойной эпиграф, в следующем виде: сперва написано Пушкиным «Kennst du das Land…» «Vilh. Meist.» («Ты знаешь ли тот край…» «Вильгельм Мейстер» ( нем. )), вслед за тем прибавлено «По клюкву, по клюкву, По ягоду, по клюкву…» Эпиграф, кажется, объясняется известным в свое время анекдотом: одна молодая русская путешественница после долгого пребывания за границей сказала, что по возвращении на родину весьма обрадовалась клюкве. Пушкин намеревался выразить в стихотворении каприз красавицы, но отделал только поэтическую часть пьесы, соответствующую эпиграфу из «В[ильгельма] Мейстера», и не приступил даже ко второй ее половине… Пародия, мы увидим, не была в его таланте и часто принимала у него серьезные, вдохновенные звуки, ей несвойственные.
58
Продолжение этой выдержки из письма от 3 декабря 1825 г. тоже прилагаем здесь: «Кстати: кто писал о горцах в «Пчеле»? Какая поэзия! Я[кубович] ли герой моего воображения? Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним был на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметьева. В нем много, в самом деле, романтизма. Жаль, что я с ним не встретился в Кабарде – поэма моя была бы еще лучше. Важная вещь! Я написал трагедию и ею очень доволен, но страшно в свет выдать: робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма. Под романтизмом у нас разумеют Ламартина. Сколько я ни читал о романтизме – все не то». Последние слова Пушкина мы объясняем далее в наших материалах.
59
Так, брат поэта рассказывает в своей записке, что однажды, оскорбясь замечанием одной женщины, он потребовал отчета у мужа ее и на нем выместил обиду. Много и других анекдотов от этой эпохи можно было бы собрать. Раз, заметив привычку одной дамы сбрасывать с ног башмаки за столом, он осторожно похитил их и привел в большое замешательство красивую владелицу их, которая выпуталась из дела однако ж с великим присутствием духа, и проч., и проч.
60
Может быть, на это письмо Пушкин отвечал стихами, первый оригинал которых, весьма несовершенный, разумеется, остался в его бумагах:
Ты прав, мой друг, – напрасно я презрел
Дары природы благосклонной;
Я знал досуг, беспечных муз удел,
И наслажденье ленью сонной.
* * *
Я дружбу знал и жизни молодой
Ей отдал ветреные годы,
Я верил ей за чашей круговой
В часы веселий и свободы.
* * *
Младых бесед оставя блеск и шум,
Я знал и труд и вдохновенье,
И сладостно мне было жарких дум
Уединенное волненье!
61
Так, например, в одной современной думе Олегов щит имеет герб России. Пушкин заметил несообразность и писал: «Древний герб, св. Георгий, не мог находиться на щите язычника Олега. Новейший, двуглавый орел, есть герб византийский и принят у нас во времена Иоанна III, не прежде. Летопись просто говорит: «тоже повеси щит свой на вратех на показание победы». Он вообще отзывался об исторических стихотворениях той эпохи довольно строго: «Вообще все слабы изобретением и изложением. Все на один покрой (loci topici) (общие места ( лат. ). – Прим. ред. ): описание места действия, речь героя и нравоучение. Национального русского нет в них ничего, кроме имен… «Милый мой, – пишет Пушкин к брату из Кишинева по поводу тех же стихотворений, – у вас пишут, что «луч денницы проникал в полдень в темницу Хмельницкого». Это не Х[востов] написал – вот что меня огорчило. Что делает Дельвиг? Чего он смотрит?» Через несколько времени Пушкин возвращается еще на свои заметки в новом письме к брату: «Душа моя, – говорит он, – как перевесть по-русски bévues (оплошности, промахи. ( фр. ) – Прим. ред. ). Должно бы издавать у нас журнал «Revue des bévues’ («Обозрение промахов» ( фр .) – прим. ред. ). Мы поместили бы там выписки из критик В[оейко]ва, полудневную денницу, герб российский на вратах византийских (во время Олега герба русского не было: двуглавый орел есть герб византийский и означает разделение империи на восточную и западную…). Поверишь, мой милый, что нельзя прочесть ни одной статьи ваших журналов, чтоб не найти с десяток этих bévues. Поговори об этом с нашими, да похлопочи о книгах…». В другой раз он останавливается на стихотворении «Олимпийские игры», напечатанном в «Мнемозине» (1826, т. IV), и снова пишет к брату: «Читал стихи и прозы К[юхельбекера] – что за чудак! Только в его голову могла войти мысль воспевать Грецию, великолепную Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом – славянорусскими стихами… Что бы сказал Гомер и Пиндар? Но что говорят Дельвиг и Баратынский?» Мы видим, что близкое знакомство не мешало Пушкину замечать погрешности приятелей, но он не всегда их высказывал начисто.
62
Можно заметить последний отголосок идеи, породившей «Демона» в стихотворении, принадлежащем к 1827 г. «Ангел» («В дверях эдема ангел нежный…»); но здесь уже представление смягчается под действием жизни и, может быть, личного опыта. Кстати, прилагаем письмо Пушкина из Одессы к Дельвигу, замечательное, между прочим, и тем, что тут впервые упоминает он о «Ев. Онегине»: «Мой Дельвиг, я получил все твои письма и отвечал почти на все. Вчера повеяло мне жизнью лицейского – слава и благодарение за то тебе и моему П[ущину]! Вам скучно, нам скучно: сказать ли вам сказку про белого быка? Душа моя, ты слишком мало пишешь, по крайней мере, слишком мало печатаешь. Впрочем, я живу по-азиатски, не читая ваших журналов. На днях попались мне твои прелестные сонеты, прочел их с жадностью, восхищением и благодарностию за вдохновенное воспоминание дружбы нашей. Разделяю твои надежды на Языкова и давнюю любовь к непорочной музе Баратынского. Жду и не дождусь ваших стихов, только их получу, заколю агнца и украшу цветами свой шалаш, хоть Б[ируков] находит это слишком сладострастным… Ты просишь «Бахчисарайского фонтана». Он на днях отослан Вяземскому: это бессвязные отрывки, за которые ты меня пожуришь и все-таки похвалишь. Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь донельзя. Б[ируков] ее не увидит за то, что он фи – дитя, блажное дитя. Бог знает, когда и мы прочтем ее вместе. Скучно, моя радость. Если б хоть брат Лев прискакал ко мне в Одессу. Где он? Что он? Ничего не знаю… Правда ли, что к вам едет Россини и италианская опера? Боже мой! Умру с тоски и зависти. 16 ноября. Вели прислать мне немецкого «Пленника».