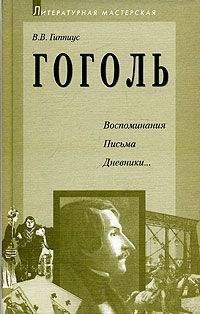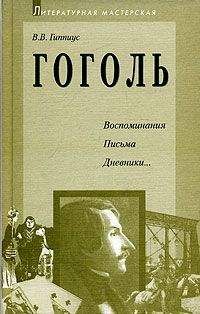24 января 1851 г. Мадам Гойер выехала с вопросом: «Скоро ли выйдет окончание „Мертвых Душ?“» — Гоголь: «Я думаю — через год». Она: «Так они не сожжены?» (При этих словах я убежала). Он: «Да-а-а… Ведь это только нача-а-ало было…» Он был сонный в этот день от русского обеда.
27 января. Ильин Николай Петрович читал вслух «Завтрак у предводителя» Тургенева. С великим терпением выслушал всю пьесу Гоголь; только при чтении действующих лиц он говорил: «Зачем о летах? Он несколько раз говорит: 35, 40, 42 и т. д.». [См. первую редакцию комедии (с примеч. Ю. Г. Оксмана) в сб. «Лит. Музеум», 1922 г. ] Ему показалось растянуто. «Вообще, — прибавил он, — у Тургенева мало движения, а жаль: пока молод еще, надобно себя настроить». Я зевала, слушая. Ко мне подошел (я как будто не вижу его, сижу и шью мою подушку) Гоголь, спросил: «Ну, вы наслаждались?» Я: «Чем»? — Г.: «Ну да женщиной: она очень хороша!» [Анна Ильинична Каурова в «Завтраке у предводителя». ] Я: «Да, она хороша, да утомительно и всё дагерротипно слишком, т. е. дагерротипно так, когда человек тронется в то время, когда его снимают». «Женщина хороша!» Он рад, что хоть что-нибудь можно похвалить!
5 марта 1851 г. Я как-то осмелилась сказать, почему бы ему не писать записок своих. Гоголь: «Я как-то писал, но, бывши болен, сжег. Будь я более обыкновенный человек, я б оставил, а то бы это непременно выдали; а интересного ничего нет, ничего полезного, и кто бы издал, глупо бы сделал. Я от этого и сжег».
Дневник неизвестной, стр. 543–557.
Н. В. Гоголь — А. А. Иванову
1850 г. 16 декабря. Одесса.
Поздравляю вас с новым годом, Александр Андреевич. От всей души желаю, чтоб он был плодотворен для вашей работы и чтобы картина ваша в продолжение его наконец окончилась и окончание ее, венчающее дело, было бы достославно. Пора, наконец! Не всё же продолжаться этим безотрадным явлениям суматох и беспорядков; пора, наконец, показаться на свет плодам мира, обдуманных в глубине души мыслей и высоких созерцаний, совершившихся в тишине. Хорошо бы было, если бы и ваша картина, и моя поэма появились вместе. [Картина Иванова (Явление Христа народу) появилась в 1858 г.]
«Письма», IV, стр. 363.
Н. В. Гоголь — П. А. Плетневу
Москва, 15 июля 1851 г.
Пишу к тебе из Москвы, усталый, изнемогший от жару и пыли. [Май 1851 г. Гоголь провел в Васильевске, а июнь — в Абрамцеве у Аксакова и в Спасском у Смирновой. ] Поспешил сюда с тем, чтобы заняться делами по части приготовленья к печати «Мертвых Душ» второго тома, и до того изнемог, что едва в силах водить пером, чтобы написать несколько строчек записки, а не то что поправить или даже переписать то, чтó нужно переписать. Гораздо лучше просидеть было лето дома и не торопиться; но желанье повидаться с тобой и с Жуковским было причиной тоже моего нетерпенья. А между тем здесь цензура из рук вон. Ее действия до того загадочны, что поневоле начнешь предполагать ее в каком-то злоумышлении и заговоре против тех самых положений и того же самого направления, которые она будто бы (по словам ее) признает. Ради бога, пожертвуй своим экземпляром сочинений моих и устрой так, чтобы он был подписан в Петербурге. Здешние бабы-цензора отказываются даже и от напечатанных книг, особливо если они цензурованы петербургским цензором. А второе издание моих сочинений нужно уже и потому, что книгопродавцы делают разные мерзости с покупщиками, требуют по сту рублей за экземпляр и распускают под рукой вести, что теперь всё запрещено. [О втором издании собрания сочинений Гоголь начал переписываться с Шевыревым еще из Одессы (см. письмо от 7 ноября 1850 г. Письма, IV, стр. 357). ] В случае, если и в Петербурге какие-нибудь придирки насчет, может, каких-нибудь фраз, то Смирнова мне сказала, что велик. княгиня Марья Никол[аевна] просила ее сказать мне, что в случае чего обратиться прямо к ней. Это она говорила о втором томе «М. Д.». Нельзя ли этим воспользоваться и при втором издании сочинений? Прежде хотел было вместить некоторые прибавления и перемены, но теперь не хочу: пусть всё остается в том виде, как было в первом издании. Еще пойдет новая возня с цензорами. Бог с ними!..
«Письма», IV, стр. 390–392.
Из воспоминаний Л. И. Арнольди
…Гоголь жил подле меня во флигеле, [В Спасском (подмосковном имении Смирновой) в июне 1851 г. ] вставал рано, гулял один в парке и в поле, потом завтракал и запирался часа на три у себя в комнате. Перед обедом мы ходили с ним купаться. Он уморительно плясал в воде и делал в ней разные гимнастические упражнения, находя это очень здоровым. Потом мы опять гуляли с ним по саду, в три часа обедали, а вечером ездили иногда на дрогах, гулять, к соседям или в лес. К сожалению, сестра моя скоро захворала, и прогулки наши прекратились. Чтобы рассеять ее, Гоголь сам предложил прочесть окончание второго тома «Мертвых Душ»; но сестра откровенно сказала Гоголю, что ей теперь не до чтения и не до его сочинений. Мне показалось, что он немного обиделся этим отказом; я же был в большом горе, что не удалось мне дослушать второго тома до конца, хотя и ожидал тогда его скорого появления в печати; но одно уже чтение Гоголя было для меня истинным наслаждением. Я все надеялся, что здоровье сестры поправится и что Гоголь будет читать; но ожидания мои не сбылись. Сестре сделалось хуже, и она должна была переехать в Москву, чтобы начать серьезное лечение. Гоголь, разумеется, тоже оставил деревню… В Москве он каждый вечер бывал у сестры и забавлял нас своими рассказами. Однажды он пришел к нам от С. Т. Аксакова, где автор «Семейной Хроники» читал ему свои «Записки Ружейного охотника». Это было года за два до их появления в свет. [Вышли в 1852 г. ] Гоголь говорил тогда, что никто из русских писателей не умеет описывать природу такими сильными, свежими красками, как Аксаков. В другой раз я встретил Гоголя у сестры и объявил ему, что иду в театр, где дают «Ревизора», и что Шумский в первый раз играет в его комедии роль Хлестакова. Гоголь поехал с нами, и мы поместились, едва достав ложу, в бенуаре. Театр был полон. Гоголь говорил, что Шумский лучше всех других актеров петербургских и московских передавал эту трудную роль, но не был доволен, сколько я помню, тою сценою, где Хлестаков начинает завираться перед чиновниками. Он находил, что Шумский передавал этот монолог слишком тихо, вяло, с остановками, а он желал представить в Хлестакове человека, который рассказывает небылицы с жаром, с увлечением, который сам не знает, каким образом слова вылетают у него изо рта, который в ту минуту как лжет, не думает вовсе, что он лжет, а просто рассказывает то, что грезится ему постоянно, чего он желал бы достигнуть, и рассказывает как будто эти грезы его воображения сделались уже действительностию, но иногда в порыве болтовни заговаривается, действительность мешается у него с мечтами и он от посланников, от управления департаментом, от приемной залы переходит, сам того не замечая, на пятый этаж, к кухарке Марфуше. «Хлестаков, это — живчик, — говорил Гоголь, — он всё должен делать скоро, живо, не рассуждая, почти бессознательно, не думая ни одной минуты, чтó из этого выйдет, как это кончится, и как его слова и действия будут приняты другими». Вообще, комедия в этот раз была разыграна превосходно. Многие в партере заметили Гоголя, и лорнеты стали обращаться на нашу ложу. Гоголь, видимо, испугался какой-нибудь демонстрации со стороны публики, и, может быть, вызовов, и после вышеописанной сцены вышел из ложи так тихо, что мы и не заметили его отсутствия. Возвратившись домой, мы застали его у сестры распивающим, по обыкновению, теплую воду с сахаром и красным вином. Тут он и передал мне свое мнение об игре Шуйского, которого талант он ставил очень высоко.