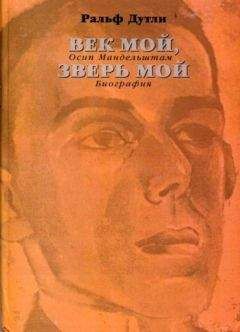Перечень городов и поселков, в которых жила Надежда Мандельштам с 1938 по 1964 год, свидетельствует о ее скитаниях по всей советской стране: Малоярославец и Струнино под Москвой, Калинин (до 1941 года), Муйнак на Аральском море и Джамбул в Казахстане, Ташкент (до 1949 года), Ульяновск (до 1953 года), восточносибирский город Чита (до 1955 года), чувашский город Чебоксары на средней Волге (до 1958 года), Верея и Таруса на Оке (150 километров к юго-востоку от Москвы) и, наконец, Псков у границы с Эстонией (до 1964 года). За магическим звучанием этих экзотических названий скрываются горькие десятилетия одиночества и страха. Именно такое беспрерывное движение от одного убежища к другому имел в виду Иосиф Бродский, когда, увидев их в роли мифологических героев, назвал Надежду Мандельштам Эвридикой, вдовой современного Орфея: «…Посланный в ад, он так и не вернулся, в то время как его вдова скиталась по одной шестой части земной суши, прижимая кастрюлю со свертком его песен, которые заучивала по ночам на случай, если фурии с ордером на обыск обнаружат их»[427].
Сама же она воспринимала себя не столько как Эвридику, сколько как неудавшуюся Антигону. Она пишет, что завидовала Антигоне, увековеченной Софоклом, — женщине, вытребовавшей у царя Креонта право похоронить брата и отдавшей за это собственную жизнь (в наказание ее замуровали в пещеру). Однако Советский Союз был страной, где прятаться приходилось миллионам Антигон; они не смели не только хоронить своих ближних, но даже и оплакивать их.
«И никто не узнает места захоронения своих близких, — сказано в ее книге. — Ямы, куда бросали людей с биркой на ноге, неприкосновенны. […] Я, вдова, не похоронившая своего мужа, отдаю последнюю дань мертвецу с биркой на ноге, вспоминая и оплакивая его — без слез, потому что мы принадлежим к бесслезному поколению»[428].
Неудавшаяся Антигона работала поначалу на фабриках, раскрашивала у себя дома детские игрушки, чистила свеклу в Узбекистане; потом преподавала английский в провинциальных институтах. Ее окрыляла неизбывная любовь. И гнала неукротимая воля — спасти произведения Мандельштама несмотря на все превратности судьбы. В этом деле у нее были сообщники и верные друзья. Не обходилось и без потерь: часть архива, доверенная в Воронеже Сергею Рудакову, оказалась утраченной. В своих воспоминаниях Надежда Мандельштам высказывает подозрение относительно жены Рудакова, которая, по ее мнению, либо уничтожила бумаги, либо их продала[429]. Большей частью это были мандельштамовские автографы 1910-х и 1920-х годов, на которых явственно отпечатались подошвы сапог — следы обыска в мае 1934 года, когда сотрудники ОГПУ швыряли на пол политически безобидные тексты и потом ходили по ним. Подошвы сапог, отпечатавшиеся на рукописях: символы той судьбы, что выпала на долю поэзии в советскую пору.
«Я завидую Антигоне»
Надежда Мандельштам (1947)
Другие рукописи были спрятаны более надежно. 4 июля 1942 года, за несколько часов до прихода немцев, Наташа Штемпель, воронежская приятельница Мандельштамов, эвакуировалась из пылающего Воронежа и взяла с собой — вместе с самыми необходимыми вещами вверенные ей стихи и письма Мандельштама. Когда в 1947 году Надежда Яковлевна вновь встретилась с ней в Воронеже, она вернула ей все в целости и сохранности: оригиналы писем Мандельштама к жене, переданные ею Наталье Штемпель уже после смерти поэта, и три больших голубых блокнота с неопубликованными стихами московского и воронежского периодов — «Наташину книгу», составленную в мае 1937 года и вложенную в заботливые руки самой Наташи[430]. Еще в ноябре 1920 года Мандельштам пророчески предсказал, что его творения сохранят «блаженные жены»:
В черном бархате советской ночи,
В бархате советской пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы. […]
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут (I, 149).
Сама же Надежда Яковлевна в 1941 году взяла с собой в ташкентскую эвакуацию автографы Мандельштама и машинописные копии. В Ташкенте бесстрашная Алиса Усова помогла ей изготовить рукописные копии и спрятать тексты. Их кодом, за которым скрывалось беспокойство о судьбе стихов, стал вопрос о здоровье «щеглов» (от «щеглиного цикла» в «Воронежских тетрадях»)[431]. В конце войны Надежде Мандельштам показалось, что за ней следят; тогда она нашла новое убежище для бумаг. А 15 мая 1944 года Ахматова улетела в Москву, где передала мандельштамовский архив Эмме Герштейн. Однако и августе 1946 года напуганная Герштейн, опасаясь обыска, решила вернуть бумаги Надежде Яковлевне. В то время затевалась гнусная кампания, направленная против Ахматовой и Зощенко. Член Политбюро Жданов, развязавший эту травлю, пытался унизить Ахматову, называя ее «полумонашенкой, полублудницей». Репрессии в отношении научной и творческой интеллигенции, возобновившиеся после окончания войны, быстро ужесточались.
Надежде Мандельштам пришлось спешно искать себе новых союзников. С осени 1946 года большая часть архива хранится в Москве у детского писателя Игнатия Бернштейна (псевдоним — Александр Ивич) — в его доме опальная пара находила приют еще в 1937–1938 годах. Игнатий был родным братом известного лингвиста-фонолога Сергея Бернштейна, который в двадцатые годы записывал на восковые валики голоса поэтов: Блока, Есенина, Маяковского и — Мандельштама. Этот специалист в области звучащего слова тоже немало сделал для сохранения мандельштамовского архива: стоило его брату почуять опасность, Сергей Игнатьевич без лишних слов прятал бумаги у себя. Сохранять голоса поэтов с давних пор вошло у него в привычку! Когда Надежда Мандельштам передала ему папку, он молча принял ее на хранение. В 1948 году к Бернштейнам перекочевали и те части архива, которые держал у себя Евгений Хазин, брат Надежды Яковлевны. Чувствуя, что он попал под наблюдение органов, Е. Я. Хазин предпочел унести из дому драгоценные и опасные бумаги. Наследие «врага народа» Мандельштама претерпело свою одиссею — от одного укрытия к другому. Хранители архива должны были обладать немалым мужеством.
В 1949 году в одной из идеологических кампаний того времени Игнатий Бернштейн-Ивич был заклеймен в советской печати как «космополит». Он стал одной из многих жертв государственного антисемитизма в позднюю эпоху параноически больного сталинского режима. Несмотря на явную опасность он готов был и далее хранить архив Мандельштама. Летом, когда Бернштейны отдыхали на даче в Подмосковье, Надежда Мандельштам приезжала к ним из своего очередного провинциального прибежища и привозила с собой новонайденные тексты, а также варианты, восстановленные ею по памяти. Там, за семейным столом Бернштейнов, пополнялся и уточнялся основной корпус мандельштамовских произведений. Это был первый — «конспиративный» — период мандельштамоведения.