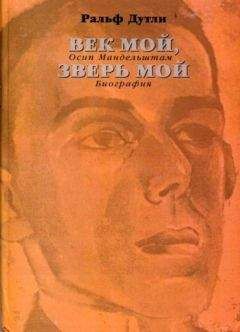Примерно в эту же пору Мандельштам завязал знакомство с Федором Сологубом, который на первых порах отнесся к начинающему поэту весьма приязненно, о чем косвенно свидетельствует финал мандельштамовской заметки 1924 года: «Федор Кузьмич Сологуб – как немногие – любит все подлинно новое в русской поэзии» (II: 409).
А вот с четой Мережковских у Мандельштама заладилось, но не очень. «К нему вышла Зинаида Гиппиус и сказала, что, если он будет писать хорошие стихи, ей об этом сообщат; тогда она с ним поговорит, а пока что – не стоит, потому что ни из кого не выходит толку»[100]. Так описана первая встреча Мандельштама с Гиппиус в мемуарах Надежды Яковлевны. «Кто-то прислал ко мне юного поэта, маленького, темненького, сутулого, такого скромного, такого робкого, что он читал едва слышно, и руки у него были мокрые и холодные. Ничего о нем раньше мы не знали, кто его прислал – не помню (может быть, он сам пришел), к юным поэтам я имею большое недоверие, стихи его были далеко не совершенны, и мне все-таки, с несомненностью, показалось, что они не совсем в ряд тех, которые приходится десятками слушать каждый день». Так вспоминала о своей встрече с Мандельштамом сама Зинаида Гиппиус[101].
Вероятно, ее версия была несколько ближе к действительности, чем вариант мандельштамовской вдовы, ведь в дневниковой записи Михаила Кузмина от 15 февраля 1909 года впервые упоминаемый Мандельштам обозван «Зинаидиным жидком»[102]. Выходит, что Гиппиус сочла нужным поделиться с коллегами по цеху своими впечатлениями от знакомства с новым молодым поэтом. Однако в письме Мандельштама к Максимилиану Волошину, отправленном в конце сентября 1909 года, с обидой рассказано о том, что, будучи «проездом в Гейдельберге», Дмитрий Сергеевич Мережковский «не пожелал выслушать ни строчки» (IV: 16) стихов «юного поэта».
В этом же письме, кстати сказать, оставленном адресатом без ответа, Мандельштам подводит горький и – одновременно – горделивый итог своим попыткам освоиться среди модернистов старшего поколения: «Оторванный от стихии русского языка более чем когда-либо, я вынужден составить сам о себе ясное суждение. Те, кто отказывают мне во внимании, только помогают мне в этом» (IV: 16).
«Символисты никогда его не приняли», – категорично утверждала в своих воспоминаниях о Мандельштаме Анна Ахматова[103].
5
В немецком городке Гейдельберге, где состоялось неудачное свидание Мандельштама с Мережковскими, находится один из самых известных в Европе университетов. «Гейдельберг того времени был Меккой, куда стремилась <…> русская учащаяся молодежь» (А.К. Тимирязев)[104]. Мандельштам приехал сюда в конце сентября – в начале октября 1909 года. 12 ноября он подал заявление с просьбой о зачислении в студенты романо-германского отделения философского факультета. «<П>ровел 2 семестра в Гейдельбергском ун<иверсите>те, занимаясь старофранцузским языком у Фрица <правильно: Фридриха Генриха Георга> Неймана» (из словарной справки)[105]. Впрочем, особого рвения к учебе Мандельштам, как и в Париже, не проявлял.
Основным его занятием в Гейдельберге продолжало оставаться писание стихов. Из них, а также из созданных чуть раньше стихотворений можно понять, какие настроения владели начинающим поэтом.
Наиболее часто повторяющиеся мотивы мандельштамовских стихов 1909 года – это мотивы робости, недоверчивости, хрупкости и тишины. Вслед за Верленом и Анненским ранний Мандельштам стремился писать «о милом и ничтожном»: его «рука» – «нерешительная», его «вдохновения» – «пугливые», да и вдохновляет его «немногое». Поэт осваивался в мире осторожно, почти на ощупь. Сегодняшний день, мгновение в его стихах этого периода почти всегда предпочитаются метафизической вечности. «Не говорите мне о вечности – / Я не могу ее вместить», – признавался Мандельштам[106]. Вместе с тем он уже в первых своих стихотворениях декларировал собственную уникальность как человека и поэта. Развивая андерсеновский образ прозрачной вечности, отогреваемой теплом человеческого дыхания, Мандельштам утверждал в стихотворении «Имею тело – что мне делать с ним…» (1909):
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.
Именно об этих стихах восторженно писал в своих мемуарах отнюдь не склонный к излишней сентиментальности Георгий Иванов: «Я прочел это и еще несколько таких же “качающихся”, туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце:
– Почему это не я написал?»[107]
Стихи Мандельштама, которые так поразили Георгия Иванова, вошли в уже упоминавшуюся нами дебютную подборку поэта, напечатанную в девятом (июль – август) номере «Аполлона» за 1910 год. Эта подборка обратила на себя внимание многих читателей. «Еще в отцовской библиотеке, – вспоминал сын Леонида Андреева, Вадим, – в одном из номеров “Аполлона” я прочел стихотворение “Имею тело – что мне делать с ним…”, которое меня поразило неприятным оборотом “имею тело” (“имею тело” было впоследствии заменено <на> “дано мне тело”) и удивительным, похожим на мертвую зыбь ритмом, от которого нельзя было отвязаться: помимо воли отдельные строчки возникали в сознании, как цветы в густой траве»[108].
Мандельштам в это время проживал в берлинском пригороде Целендорфе. В Петербург из Германии он вернулся в середине октября 1910 года. На границе с Восточной Пруссией Мандельштам был задержан из-за просроченного паспорта. От Двинска ехал безбилетным пассажиром в кондукторском купе, так как потерял кошелек с железнодорожным билетом. Недаром еще тенишевский учитель Мандельштама по арифметике отмечал в своем отзыве о мальчике: «Слабая сторона его – рассеянность»[109].
Гейдельберг Мандельштам навсегда покинул гораздо раньше – еще в начале весны 1910 года. Потом были кратковременные поездки в Италию и Южную Швейцарию. Из воспоминаний Евгения Мандельштама: «Мы с Осипом много бродили по альпийским лугам Беатенберга, любовались снеговыми вершинами, раскинувшимся внизу озером, видом чистенького игрушечного городка Интерлакена. Здесь, в Беатенберге, мы были как бы отрезаны от мира. Ведь наверх дорог не было, и поднимались на фуникулере, которого в России почти нигде тогда не было. Хорошие это были дни, и Осип, перед которым только что открылась дорога в жизнь, был улыбчатым и потом не раз вспоминал о Беатенберге»[110].
Больше за дальними рубежами отечества Мандельштаму не суждено было побывать никогда.
В 1910 году от скоротечной чахотки умер Синани-младший. «Умирая, Борис бредил Финляндией, переездом в Райволу и какими-то веревками для упаковки клади. Здесь мы играли в городки, и, лежа на финских покосах, он любил глядеть на простые небеса холодно удивленными глазами князя Андрея» («Шум времени») (IV: 383). В мандельштамовском стихотворении «Слух чуткий парус напрягает…» (1910), которое, по всей видимости, было навеяно кончиной Бориса Синани, взгляд на «простые небеса» передоверен лирическому герою – самому поэту (в юности отличавшемуся слабым здоровьем), через смерть друга еще раз ощутившему хрупкость и недолговечность собственной жизни: