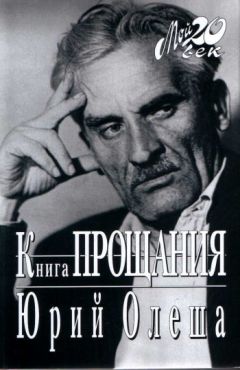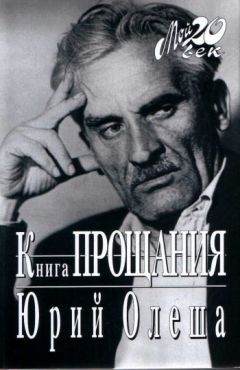Темой одного из героев этой пьесы должно быть следующее положение:
«Нельзя строить государство, одновременно разрушая общество».
Это герой — вычищенный при чистке учреждения, в котором он служил.
Другой герой — вернее, героиня — мечтает о Европе, о заветном крае, где можно проделать «прыжок от пишущей машинки в звезды ревю», где можно стать знаменитой и богатой в один день.
Третий герой ненавидит себя за свою интеллигентность, за «гамлетизм», за раздвоенность.
Четвертый хочет вступить в партию для карьеры, для утирания кому-то носа — для удовлетворения тщеславия.
Пятый ощущает конец жизни, стареет, разрушается в тридцать лет, чувствует отсутствие жизненной воли, определяя себя нищим, лишенным всех внутренних и материальных богатств.
Целая серия характеров, вернее носителей мнений, представляется мне возможной для воплощения в персонажах современной советско-человеческой комедии.
Фон — строительство социализма в одной стране. Конфликт — двойное существование, жизнь собственного Я, кулаческая сущность этой жизни — и необходимость строить социализм, долженствующий раскулачить всякую собственническую сущность.
Вот о чем хочу я написать. Писать я буду в реалистической манере — бытовую пьесу!
Однажды показалась мне литература чрезвычайно легким хлебом. Я понял, что быть литератором — стыдно, потому что легко; я увидел позор в том, что столько внимания уделяется у нас писательскому труду.
Итак, значит: в тридцатые годы двадцатого века некоторые писатели стали задумываться над сущностью своей деятельности в том смысле, что деятельность эта бесполезна и паразитирующа.
Вот эта фраза уже есть чистое сочинительство, и то, что я сейчас собираюсь написать, могло бы отлично без этой фразы обойтись.
Все дело в разбеге руки. Нельзя удержать руку, и затем возникает то, что называют ритмом.
Рассказ начинается так:
«Командарм умер в среду».
Это будет солидный рассказ, вполне почтенных особенностей, рассказ для любого ежемесячника.
Командарм умер в среду[36]. Его молодое тело, ставшее тяжелым и неподвижным, положили в желтый полированный ящик…
7 маяС утра в театре. Репетиции «Толстяков». Чувствую, что могу дать ряд ценных замечаний, молчу. Почему молчу — неизвестно. Ведет репетиции Москвин[37]. Бешеный темперамент — в пятьдесят шесть лет. Головастый, лобастый — щелкунчик. Первое впечатление ошибочно. Думал сперва: актер! То есть — как все актеры. Ну этот, может быть, выше: передвижник. (А я-то сам — что? Подумаешь! Чем оно питается, это неуязвимое самомнение?) Потом разглядел иронию, юмор человеческий (не от сцены, не от ролей), понравился, стал импонировать. Он — мужчина, может вдруг вызвать зависть. Я завидую умеющим проявлять достоинство. Ходит в черном костюме, давно шитом; седой, красный, в пенсне, мясистое, но твердое лицо. Показывая актеру, как кричать, кричит чистым, очень сильным, звонким голосом. Раскоряка.
Эпоха. Пьеса моя будет идти в Художественном театре.
Я — автор Художественного театра: Метерлинк, Чехов, Андреев и я. Вы только подумайте. И для Андреева ведь это было достижением: поставить пьесу в Художественном театре. И вот и я, маленький гимназист, житель Одессы, папин и мамин сын, — тоже стал автором знаменитого театра.
Качалов! Я болел тифом в 1919 году в Одессе, сестра[38] вернулась с концерта и рассказывала мне, как исполнял Качалов монолог Анатэмы[39]. Она говорила что-то о его шепоте. Все спуталось, не помню. Сестра, заразившись тифом от меня, умерла. Теперь я встречаю Качалова в коридоре театра, как встречал его Чехов. Голуболицый господин, чрезвычайно деликатный Качалов. Я стал автором Художественного театра.
Вопрос себе: революция, я, Художественный театр — что же: этап ли это в моей жизни? То, что пьеса такого-то писателя идет в Московском Художественном театре, есть ли это знаменательное событие в жизни писателя, если принять во внимание третье условие — революцию? На этот вопрос могу ответить: не знаю, неизвестно, все спуталось. Художественный театр с Качаловым, с Москвиным, с Чеховым, с днатэмой, с качаловским шепотом, о котором рассказывает девушка, возвратившаяся с концерта, — есть часть той общественной системы, которая рухнула. В той системе постановка пьесы в Художественном театре значила: во-первых — фиксация внимания интеллигенции на данном событии — внимания интеллигенции, т. е. особенного внимания — понимающего, взвешивающего, сочувствующего — словом, внимания «своего человека»; во-вторых: слава. Передовой театр ставил лучших авторов, если твоя пьеса поставлена этим театром — значит, ты лучший автор; ты сразу стал авторитетным. А слава — это деньги, путешествие, это укрепление жизни, это фраза о том, что кто-то чего-то добился. Это простор для проявления личного достоинства. Это вступление в чрезвычайно узкий круг, который высокомерен и чванен по существу, — круг передовых людей страны, именуемых сливками. Россия — провинция. И вот где-то над нею — столичность. Столичность — предел устремлений. Стать автором Художественного театра значило стать одним из заправил столичности.
Что же теперь?
Система аннулирована. Есть ли теперь столичность? Коммунистическая академия в Москве — это верно. Высший Совет Народного Хозяйства в Москве; но вот строится новый город Магнитогорск. Так. Москва — центр? Да? Москва — центр. Когда говорят «центр», следует представить картину: молодой человек едет из захолустья в этот самый центр устраивать свою личную судьбу.
У молодого человека мысли: как я там покажусь в моей потрепанной одежде? Ничего, думает молодой человек, наступит день, когда я буду стоять у лучшего портного и лучший портной будет снимать с меня мерку. Я надену фрак от лучшего портного. Фрак!
После премьеры в Московском Художественном театре молодой автор надевает фрак и едет на банкет. На банкете сливки общества, весь тот круг, который висит над провинцией, сияющий и недосягаемый. А теперь: смущает ли молодого человека, едущего в Москву, то обстоятельство, что на нем худая одежда? Этот вопрос отпадает. Можно быть одетым во что угодно. Моды нет. Модным быть стыдно. Отсутствие легкой промышленности уничтожает ту особенность общественного уклада, которая вызывала взаимную неприязнь между людьми плохо и хорошо одетыми. Столичность — это мода, вкус, приличие, тонкость, примеры, образцы, авторитетность, — т. е. концентрация всего того, что предписывает всей стране образ жизни и мыслей. Это сознавал бы я, ставши автором главного столичного театра. Я стал бы (быть может, и непроявляемо) — чванным, маленьким диктатором. По мне следовало бы кому-то равняться. Я бы мог, пожалуй, и захватить какую-то идеологическую власть, сделался бы властителем дум. На банкете столичных столпов, во фраке, модный — я мог бы произнести слова, которые побежали бы, как огонь по бикфордову шнуру, производить взрыв. Я бы мог произнести слова, направленные против тех, кто создал меня же, против своих же. Я мог бы сказать: ненавижу людей. И люди, которых я ненавидел бы, прощали бы меня и даже назвали бы меня философом. Вот оно что. Потому что я столичный, я в сливках общества, я передовой человек страны.