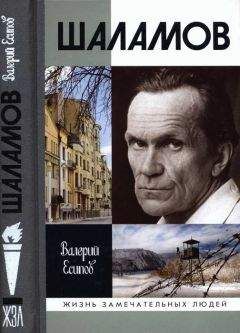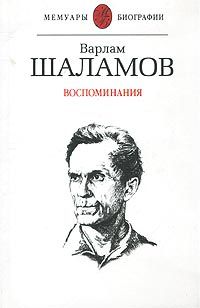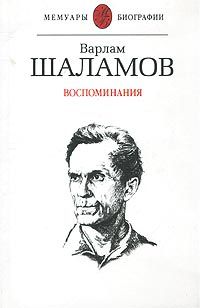На современный взгляд, все, что делал о. Тихон по дому и вне его, принадлежит к того рода американской деловитости, которая тесно связана с основой цивилизованного капитализма — протестантской этикой. Разумеется, православному священнику было бы неловко признаваться, что он нечаянным образом усвоил постулаты чуждой ему религии, но объективно дело обстояло именно так. Наверное, единственное, чего не хватает в великолепном (хотя и пристрастном) психологическом портрете отца после Аляски, нарисованном в «Четвертой Вологде», — это крылатой фразы Б. Франклина: «Время — деньги». Но до такой степени «американизации» отец, судя по всему, не дошел, да и не мог дойти, потому что в душе его все же доминировали ценности его родной религии, ценности альтруизма и нестяжательства — направленные лишь в более рациональное русло.
Шаламов по-разному описывал причины своего конфликта с отцом. Главное, что при этом победительной, перевешивающей стороной, гораздо более близкой юному Варламу, всегда оказывалась сторона матери. И это неудивительно: младший, последний сын был ее любимцем.
Сам Шаламов вспоминал: «Весь мой конфликт с отцом уходит в самые ранние годы, еще дошкольные, когда овладение грамотой в три года показалось отцу дерзостью непозволительной, а со стороны матери — ненужным педагогическим экспериментом. Материнский педагогический эксперимент был в том, что мне не давали игрушек — только кубики с буквами, из которых я складывал слова, играя у ног матери на кухне во время ее круглосуточной стряпни…»
Отец во всем стремился превзойти и заслонить мать. Некогда равные и спокойные семейные отношения за время службы на Аляске превратились в отношения повелевания — подчинения. Вечно занятая детьми и домом, Надежда Александровна и на Кадьяке не могла в полную силу применить свое педагогическое образование: она учительствовала там не все 12 лет, как полагал сын, а всего лишь последние годы (и была отмечена архиерейской грамотой — «за ея безмездные учительские труды в местной школе», как запечатлено в вышеупомянутой монографии). А отец и на Кадьяке не позволял ей проявлять инициативу в воспитании детей, зачем-то выписав из Петербурга популярное пособие «Гимназия на дому».
Таким образом, лишь с Варламом (несостоявшимся Александром) Надежде Александровне удалось осуществить свои заветные материнские и педагогические мечты. И это дало великолепные плоды! Ибо научить ребенка в три года читать столь простым, неназойливым способом — по кубикам, не отходя от печки и только подсказывая время от времени буквы, — для этого нужен был особый талант, никакими пособиями не учтенный. Собственно, школа у печки и стала базисом, на котором вырос будущий писатель, — ведь навыки чтения, усвоенные в столь раннем возрасте, намного раньше открывают путь к познанию мира и к формированию у ребенка других удивительных способностей. По крайней мере тот феномен, который чуть позже открыл у себя Варлам — способность к быстрому чтению («…в мое зрение попадают двадцать-тридцать строк сразу, и так я читаю все книги всю жизнь»), помноженный на феномен уникальных природных свойств памяти (он запоминал твердо, навсегда, те же строки уже после второго прочтения, а все, что читал, видел и слышал в жизни, помнил в малейших подробностях — за редкими исключениями — до конца дней), во многом определил его огромный интеллектуальный багаж, который не смог ни подорвать, ни уничтожить даже колымский лагерь. И все это, повторим, благодаря матери.
Ей же принадлежит, бесспорно, и то, что называется воспитанием чувств, воспитанием души младшего сына. Сколько слов посвящено Шаламовым матери в благодарность за рождение в себе поэтического начала! (И сколько слов неприязни к отцу за то, что тот — от глухоты своей сердечной, от неискоренимого «позитивизма», прагматизма мышления — так старался это начало всячески погасить, убить!) «Мы, младшие дети — Сергей, Наташа и я — мы представители маминых генов — жертвы, а не завоеватели, представители высшей свободы по сравнению с грубой отцовской силой, — писал Шаламов о своем детстве. — У всех у нас выражено душевное, даже духовное сопротивление. Это-то сопротивление мы в семье и выражали. Наша формула такая: сначала жертва, а потом право на советы. Личный успех все мы ценили в грош. Именно потому что мы жертвы, мы не считаем нужным подчиняться…»
Патетика этих слов была рождена чувством постоянной жалости к матери, которое с ранних лет испытывал Варлам и которое, как можно понять, разделяли младшие брат и сестра. Причиной жалости была ее судьба — романтической гимназистки, красивой и умной женщины, вынужденной стать типичной «попадьей», резко погрузневшей с возрастом, больной и обреченной на роль прислуги при муже. Недаром Шаламов подчеркивал: «Мама любила стихи, а не ухваты». Но, пожалуй, лучше всего психологический портрет матери, а также и чувства к ней отражены в позднем, написанном в период создания «Четвертой Вологды» стихотворении (1970 год):
Моя мать была дикарка,
Фантазерка и кухарка.
Каждый, кто к ней приближался,
Маме ангелом казался.
И, живя во время оно,
Говорить по телефону
Моя мама не умела:
Задыхалась и робела.
Моя мать была кухарка,
Чародейка и знахарка.
Доброй силе ворожила,
Ворожила доброй силе.
Как Христос, я вымыл ноги
Маме — пыльные с дороги, —
Застеснялась моя мама —
Не была героем драмы.
И, проехавши полмира,
За порог своей квартиры
Моя мама не шагала —
Ложь людей ее пугала.
Мамин мир был очень узкий,
Очень узкий, очень русский.
Но, сгибаясь постепенно,
Крышу рухнувшей вселенной
Удержать сумела мама
Очень прямо, очень прямо.
И в наряде похоронном
Мама в гроб легла Самсоном, —
Выше всех казалась мама,
Спину выпрямив упрямо,
Позвоночник свой расправя,
Суету земле оставя.
Ей обязан я стихами,
Их крутыми берегами,
Разверзающейся бездной,
Звездной бездной, мукой крестной.
Моя мать была дикарка,
Фантазерка и кухарка.
Метафора «дикарка» означает, что Надежда Александровна была попросту нелюдима, сторонилась всех, кто выходил за привычный домашний круг, и это — прямое следствие ее статуса «попадьи», много лет отрезанной от свободного мирского общения (не говоря о светском). При этом она была необычайно открыта, доверчива к каждому незнакомому человеку, видя в нем исключительно доброе («ангелом казался», «ложь людей ее пугала»), — черта идеалистки, сохраненная с юности благодаря опять же «законсервированности» своей жизни. С этим органично связана и склонность к мечтательности, вера во все чудесное на свете («фантазерка»). Но «ворожбу» и «знахарство», разумеется, нельзя понимать буквально — подобного рода увлечения никогда бы не допустил муж-священник и рационалист. Скорее речь идет о поэтизированной сыном обычной для женщин-матерей привычке прибегать к разного рода домашним лечебным средствам.