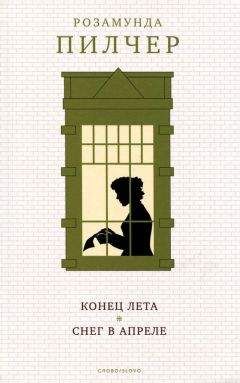— Нет, ты мне скажи: мы должны были ее спасать?
— Знаешь, Тося Голиборская говорила мне, что ее мать тоже приняла яд. «А этот кретин, мой зять, — рассказывала Тося, — ее спас. Можете себе представить такого кретина? Спасти для того, чтобы через несколько дней ее погнали на Умшлагплац…»
Когда началась акция по уничтожению гетто и с первого этажа нашей больницы уже выволакивали людей, наверху одна женщина рожала. Возле нее стояли врач и сестра. Как только ребенок появился на свет, врач передал его сестре. Та положила его на подушку, сверху прикрыла другой. Ребенок попищал минутку и затих.
Матери было девятнадцать лет. Врач ничего ей не сказал, ни слова — она и без слов поняла, что нужно делать.
Хорошо, что ты не спрашиваешь: «А эта девушка жива?» — как спросила про врачиху, которая дала детям цианистый калий.
Да, она жива. Прекрасный педиатр.
— Так что же было с дочкой Тененбаум?
— Ничего. Тоже погибла. Но перед тем прожила несколько счастливых месяцев: у них была любовь с одним парнем, рядом с ним она всегда была спокойная, улыбающаяся. По-настоящему счастливые месяцы прожила, правда.
Француз из «Экспресса» спрашивал меня, влюблялись ли люди в гетто. Так вот…
— Прости. Ты тоже получил талон?
— Да. Я стоял в пятнадцатой пятерке, в той же колонне, где Франя и дочка Тененбаум, и вдруг увидел свою девушку и ее брата. Я поскорей втащил их в колонну, но так поступали и другие, поэтому в колонне оказалось уже не сорок, а сорок четыре тысячи человек.
Немцы пересчитали нас, последние четыре тысячи отделили и отослали на Умшлагплац. Но я попал в первые сорок тысяч.
— Значит, француз спросил у тебя…
— …влюблялись ли люди. Так вот: выжить в гетто можно было, только если у тебя кто-то был. Человек забирался куда-нибудь с другим человеком в постель, в подвал, куда попало — и до следующей акции уже не был один.
У того забрали мать, у этого застрелили на месте отца, увезли в эшелоне сестру, так что, если кому-то чудом удавалось убежать и остаться еще на какое-то время живым, он непременно должен был прильнуть к другому живому человеку.
Люди тогда тянулись друг к другу, как никогда прежде, как никогда в нормальной жизни. Во время последней акции пары бежали в Общину, отыскивали какого-нибудь раввина или кого угодно, кто бы мог их обвенчать, и отправлялись на Умшлагплац уже супругами.
Тосина племянница пошла со своим парнем на Павью — в доме номер один там жил раввин, он их обвенчал, и прямо оттуда их забрали оуновцы[16], а один приставил ей дуло к животу. Тогда он, ее муж, отвел дуло и заслонил живот своей рукой. Ее, правда, все равно отправили на Умшлагплац, а он, с оторванной кистью, убежал на арийскую сторону и погиб в варшавском восстании.
Вот в чем мы нуждались: в человеке, готовом, если понадобится, заслонить собственной рукою твой живот.
— Когда началась эта акция, и Умшлагплац, и прочее, вы — ты и твои товарищи — сразу поняли, что это означает?
— Да. Двадцать второго июля 1942 года были развешаны плакаты с распоряжением о «переселении населения на восток», и в ту же ночь мы расклеили листовки: «Переселение — это смерть».
Назавтра на Умшлагплац начали свозить заключенных из тюрьмы и стариков. Продолжалось это целый день, так как перевезти надо было шесть тысяч заключенных. Люди стояли на тротуарах и смотрели — и, знаешь, было абсолютно тихо. Все происходило в гробовой тишине…
Потом уже не осталось ни заключенных, ни стариков, ни бездомных нищих, а на Умшлагплац надо было каждый день доставлять десять тысяч человек. Заниматься этим надлежало еврейской полиции под надзором немцев, и немцы говорили: все будет спокойно и никто не станет стрелять, если ежедневно, не позже четырех часов, в вагоны будет погружено десять тысяч человек. (В четыре эшелон должен был быть отправлен.) Так что людям говорили: «Если мы наберем десять тысяч, остальные уцелеют». И полицейские сами задерживали людей — вначале на улице, потом окружали дом, потом выволакивали из квартир…
Кое-кому из полицейских мы вынесли смертные приговоры. Коменданту полиции Шеринскому, Лейкину и еще нескольким.
На второй день акции, 23 июля, собрались представители всех политических группировок и впервые заговорили о вооруженном сопротивлении. Все уже были настроены решительно и раздумывали, где бы достать оружие, но спустя несколько часов, не то в два, не то в три, кто-то пришел и сказал, что акция приостановлена и никого больше выселять не будут. Не все в это поверили, но атмосфера сразу разрядилась, и до конкретных решений дело не дошло.
Большинство все еще не верило, что это — смерть. «Разве можно, говорили, — истребить целый народ?» И успокаивались. Нужно доставить сколько-то людей на площадь, чтобы спасти остальных…
Вечером в первый день акции покончил с собой глава Общины Черняков. Это был единственный дождливый день. А вообще от начала до конца акции стояла солнечная погода. В тот день, когда умер Черняков, закат был красный, и мы думали, это к дождю, но назавтра опять светило солнце.
— Для чего вам нужен был дождь?
— Ни для чего. Я просто рассказываю тебе, как было.
Что касается Чернякова, то мы были к нему в претензии. Мы считали, он не должен был…
— Знаю. Мы уже об этом говорили.
— Разве?
А знаешь, после войны мне кто-то сказал, что у Лейкина — полицейского, которого мы застрелили в гетто, — тогда, на восемнадцатом году супружеской жизни, родился первый ребенок, и он думал, что своим рвением его спасет.
— Хочешь еще что-нибудь рассказать об акции?
— Нет. Акция закончилась. Я остался жив.
Так совпало, что у пана Рудного, и у пани Бубнер, и у пана Вильчковского, альпиниста, инфаркт случился либо в пятницу, либо в ночь с пятницы на субботу, поэтому суббота для каждого из них оказалась свободным от каких бы то ни было дел днем. В субботу все они лежали неподвижно, под капельницей с ксилокаином, и думали.
Инженер Вильчковский, например, думал о горах, а вернее, о позолоченной солнцем вершине (именно так, поэтически, выразился он потом), на которой наконец-то можно развязать веревки и присесть, — и вершина эта была не в каких-нибудь там Альпах, или в Эфиопии, или даже на Гиндукуше просто вершина в Татрах, Менгушовецкий пик или, может быть, Жабий Мних, на который он как-то, в сентябре, проложил очень красивую дорогу по западному склону. Пану Рудному (первая пересадка вены в сердце в остром периоде) виделись, разумеется, басонные машины — только современные, импортные, английские или швейцарские, и все на ходу: не было такой, у которой бы недоставало частей. А у пани Бубнер (изменение направления кровотока) перед глазами маячил небольшой литьевой пресс. Пластмассовые детали на нем штамповал рабочий, но в кипящую краску потом их бросала уже она сама, так как это была самая ответственная часть работы. Затем она собирала всю авторучку (на швейцарские наконечники, которые перепали ей из посылок, у нее, разумеется, имелась таможенная квитанция), маркировала и укладывала в коробочку.