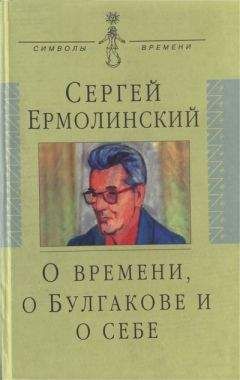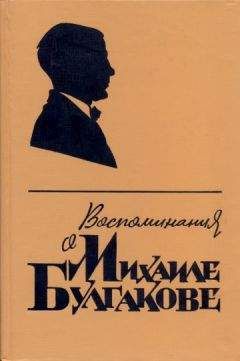— Го киген икхага де годзаимас?
— О каге де тайхен тася де годзаимас.
Это очень вежливая форма вопроса: как вы поживаете? И не менее вежливый ответ: Вашей тенью совершенно здоров.
Педагогическая жилка Попова-Тативы сказалась не только в целесообразном подборе фраз и оборотов, но и в том, что он умел заинтересовать самим процессом их изучения. Он не был ученым, исследователем языка, как, например, Н. Конрад[27] или Е. Поливанов[28].
Тут нельзя не напомнить об Евгении Дмитриевиче Поливанове, крупнейшем явлении в советской лингвистике. Несчетное количество языков и наречий народов Азии и Африки было исследовано им, систематизировано, определено, а в своих обобщениях он уходил далеко за рамки востоковедения. Судьба его была трагична: арестованный по навету подлецов в 1938 году во Фрунзе, куда приехал со своей обычной научно-исследовательской целью, он был расстрелян. Его имя на время стало запретным, но сейчас, полностью реабилитированный, он сам стал предметом пристального изучения. В 1965 году в Самарканде состоялась всесоюзная межвузовская конференция лингвистов, специально посвященная Е. Д. Поливанову. Сокращенно ее так и называли — поливановская конференция, и основной доклад В. В. Иванова на ней был — «Поливанов и мировое языкознание».
Первая работа Поливанова, с которой я познакомился, была напечатана в 1921 г. в 1-м выпуске Сборников по теории поэтического языка (ОПОЯЗ) — «По поводу звуковых жестов японского языка». Поливанову было тогда, если не ошибаюсь, не более 25 лет.
Этот блистательный лингвист и Н. Конрад, ныне академик, возглавили ленинградскую школу японоведения, гораздо более яркую, чем наша московская (Попов-Татива, М. Г. Попов, Поливанов).
Николай Михайлович Попов-Татива по складу своему был скорее журналистом, литератором, влюбленным в страну, которую он изучал. Его очерки и статьи опубликованы в дореволюционных «Морских сборниках». Со студентами он сразу наладил хорошие, дружеские отношения. Жил он в одной из пристроек нашего института и любил, когда мы к нему заходили. Его рассказы о Японии были наполнены живыми черточками быта, а о народе он говорил, подчеркивая удивительное соединение поэтичности японцев и их практицизма, поразительную быстроту в освоении современной цивилизации и техники с неколебимой привязанностью к традициям: японец всегда японец, каким бы европейцем он ни стал.
Я пробовал переводить японские танки и обычно показывал их Николаю Михайловичу. Лаконичная образность этих своеобразных поэтических миниатюр требовала расшифровки, без нее ничего не было понятно. Например: «ни симиру о кация содзи ни юби но ато» (о, проникающий в душу ветер, это работа маленьких пальчиков в содзи). Как это понять?
— Содзи — это промасленные передвижные стенки японского домика, — подбрасывая полешки в железную печку и кутаясь в плед, объяснял Попов-Татива. — Дети любят протыкать их кончиком пальца, с лопающимся звуком образуются дырочки. И вот у матери умер ребенок. Осень. Она сидит дома. Ветер проникает в дом через дырочки в содзи. О, проникающий в душу ветер… Николаю Михайловичу нравится объяснять, и он говорит мне:
— У вас, Сережа, есть вкус к японской культуре. Когда я в первый раз очутился в этой стране, я подумал, не на другой ли я планете?..
Института я не окончил, потому что на последнем курсе совмещать Институт с Университетом стало трудно. А я полностью погрузился в русскую литературу, в ее 19-й век, все более проникаясь ее нравственной красотой и силой. Это было не увлечение, а духовная необходимость, и это осталось на всю жизнь.
Нашим кумиром тогда был Грибоедов (я говорю про своих друзей). Он был для нас не только автором «Горя от ума», не это волновало нас. Романтика его дипломатического подвига, трагическая гибель в Тегеране, о которой Пушкин написал: «его смерть была мгновенна и прекрасна», его ум, скептический и едкий, не лишивший его способности мыслить государственно, все это необыкновенно привлекало нас. Он был обличитель, переживший крах декабризма, и он, не сдавшийся, продолжал утверждать свои политические идеалы (в проекте ли азиатской кампании, составленной в Тифлисе, или в жесткой и прямой линии поведения в Тегеране). Неврастеник века, он был мужественен! Он был, если можно так выразиться, Хемингуэем нашей молодости. И подобно санкт-петербургским модникам тех двадцатых годов, когда он вернулся в столицу после подписания блестящего Туркманчайского трактата, мы, юноши наших двадцатых годов, готовы были подражать, если не его узким очкам и взбитому коку, то благородству и смелости. Нам импонировала, наконец, ироническая загадочность его мужского поведения, трагически подчеркнувшая нежность его любви к девочке Нине Чавчавадзе. Это поражало нас. Он был герой шпаги, бретер, рыцарь слова! Мы выдумывали его даже. В 1951 году в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского была поставлена моя пьеса «Грибоедов»[29], и я мог бы, по праву, посвятить ее друзьям моей юности.
Я помню Бориса Лапина и Зяму Хацревина. Они тоже готовили себя «в Грибоедовы»… Оба поступили в Институт восточных языков — Боря на отделение индустани, а Зяма — на персидское. Зяма, раньше всех нас освоивший грибоедовский дендизм, оказался в конце концов в Иране (в середине тридцатых годов) и написал небольшой цикл новелл «Тегеран», а Боря поначалу своей желторотой молодости шатался по квазилитературным кафе, объявив себя неоклассиком (на Тверской, 18 тянул в нос — «…спит тютюн, не движется осока…») — и совсем было опустился, но вдруг бросил всю эту муть, как отрезал, и худой, издерганный исчез. Этот хрупкого сложения, близорукий, углубленный в себя человек оказался на редкость вынослив и деятелен. Сохранились его стихи, написанные с веселой иронией: «Было мне шестнадцать лет. Поглядите на меня — я приехал в Самарканд в розовом начале дня и пришел в редакцию „Азиатского огня“, и редактор В. Степанов взял наборщиком меня. Было это в ноябре, в месяц пыли и ветров. В небе плыли облака — яркой пышностью ковров. Важно плыли облака. Мой характер был суров. Я готов был вечно жить. Я был счастлив и здоров».
Он объявился на Памире в качестве переписчика статистического управления (шла перепись) и верхом путешествовал по диким тропам горного Бадахшана. Он написал об этом очень талантливую прозу — «Повесть о стране Памир», в конце которой с достоверностью рассказал, как он попал в плен и был увезен в Индию. Этого не было. Был трудный будничный путь маленького переписчика, пробиравшегося от кишлака к кишлаку, терпящего невзгоды и лишения, но воображение не отпускало его. Оно расцвечивало события, фантастически увеличивало их. Он был мистификатор, работавший на документальном материале.