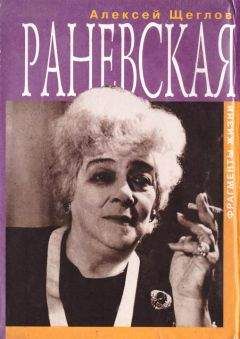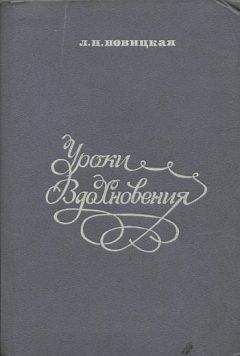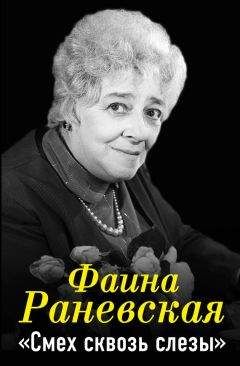Оказывается, до меня побывал Товстоногов и унес Полное собрание Мережковского. Жаль. Но, если кто-нибудь еще Мережковского сдаст, она для меня отложит.
Хочу обратить внимание на цены. За уникальное Собрание Пушкина – всего 15 рэ. За Тютчева – 10. Две бутылки.
Кто-то сказал: «Книги не только читать надо, но их иметь надо». Сущая правда. Одно дело – Публичная библиотека, другое – когда ты в этой атмосфере варишься! Человек, собравший дома библиотеку и пусть даже не открывший всех книг, – счастливый человек. У Аркашки Счастливцева «пиес тридцать и с нотами», правда, по большей части водевили. А тот, у кого и драмы есть, – тот даже ходит, дышит по-другому, а главное – больше молчит. Он себе на уме.
Я завидую тем, у кого в доме мало мебели, а полки забиты книгами. Я завидую тем, кто в «451˚ по Фаренгейту» Брэдбери спасает книги от сожжения, выучивая их наизусть. К сожалению, фильм Трюффо получился иллюстративным. Проза Брэдбери жестче. Это – притча, снимать ее нужно было как Евангелие от Матфея. Я не мог бы себя представить ходящим по лесу и механически зазубривающим, скажем, Диккенса. Хотя на память не жалуюсь – выучил бы. Тем более такого автора – одно удовольствие.
По долгу своей службы – очень зависимой – сталкиваюсь преимущественно с литературой, которую сжечь было б не грех.
У меня помимо основной библиотеки есть еще одна – из сделанных уже ролей. Из каждой роли я сооружаю тетрадку – как только начинаю репетировать. Это маленькие листочки наподобие календарных, я их сшиваю и переплетаю картоном. Потом фломастером жирно наношу название и их подписывает Г.А.
Немного о своей памяти. Надеюсь, это не будет выглядеть нескромно. Я играю Робеспьера в спектакле «Правду! Ничего, кроме правды!». Это такая маленькая роль, что мне разрешается – в порядке исключения – не дожидаться общих поклонов и после первого акта уходить домой. Конечно, разрешается «негласно», только на рядовых спектаклях. Но на тех, что приурочены к знаменательным датам, я должен слиться вместе со всеми. Однажды накануне одной из таких дат – годовщины Октябрьской революции – Кирилл Лавров с женой угодили в больницу. Отменить этот самый «обкомовский» из спектаклей – смерти подобно. Товстоногов вызывает меня… У меня на все про все только два дня!
Надо заметить, что роль у Лаврова немаленькая – шестьдесят страниц моего мелкого катастрофического почерка. Непрерывная болтовня, да еще с пафосом и из зрительного зала – так, что и подсказывать некому. Я переписал роль и начал учить с сыном. На него была вся надежда – у нас процесс зубрежки налажен еще с «Генриха», Юра за всех персонажей подает. Я «снял его с уроков», и мы заперлись на два дня.
В день спектакля меня колотило. Я должен был незаметно – уже после третьего звонка – пройти на свое место в партер. Неожиданно поклонники Лаврова (они очень любили этот спектакль) стали перешептываться: что-то не так! – а одна из них, сидевшая в соседнем ряду, аж в дугу изогнулась, чтоб заглянуть мне в лицо. Я ей тихо: «Ну, не повезло тебе, не повезло – не Лавров я, дальше что?!» Она почему-то оскорбилась, замахала программкой, и через некоторое время я услышал глухой демонстративный хлопок стулом – шшарк! «Хорошенькое начало», – подумал я и… приготовился к провалу.
Все прошло как во сне, особенно первый спектакль. Я был удостоен благодарности Товстоногова, который уже из ложи показал большой палец: «Какой высокий профессионализм, Олег!»
Весь текст, который я с такими муками в себя вложил, через четыре спектакля был с легкостью отдан назад. Больше я эту роль не играл, хотя, когда Лаврову нужно было сниматься в «Мещанах», меня попросили снова: «Выручи!» Но одно дело, когда человек в больнице, – в этом случае выручить – твой профессиональный долг. Быть мальчиком, подающим мячи, быть все время в запасе – тут уж мое почтение… увольте! Кажется, получился скандал (шкандаль – как сказала бы Проня Прокоповна[25]), говорили, что зазнался. Мне это всю жизнь говорили. Но я план по вводам перевыполнил. Как и раньше, играю своего Робеспьера и после первого акта, не дожидаясь поклонов, ухожу домой.
Между прочим, М.Ф. Романову избежать поклонов в его «любимом» спектакле «Рассвет над морем» не удавалось. Еще бы – он играл Котовского! Романов кланялся очень виновато, как будто складывал шею по частям. Ощущая неловкость перед зрителями, он вслух просил у них прощения: «Извините меня, дорогие! извините – пьеса такое дерьмо…» Кланялся и все извинялся.
Я подумываю о небольшой чтецкой программе. Хочется какой-нибудь отдушины. Выучу для начала несколько стихотворений Тютчева. И надо билеты занести в «Букинист» на «Три мешка». Может, еще что перепадет.
Октябрь, 25
Трагический артист
Каждый жест распадается на атомы. Сначала рука долго лежит на пюпитре, на нотах. Как будто окаменев. Зал притих – ощущение мертвости. Он медленно окидывает оком тех, кто расположился на стульях. Их, с инструментами, он пригвоздил, закрепил болтами на время симфонии. Им послан некий заряд, и они уже сидят, как на электрических стульях. Их головы неловко вскинуты – они, прижав инструменты, ждут поворота его головы.
Его правая рука отделяется от пюпитра.
Она взвесилась в душном пространстве Филармонии.
Она сжалась в кулак.
Блеснули на левой руке два кольца, одно из них – на мизинце. (Что эти кольца значат?)
Неожиданный вздерг руки – как молния, сверкнувшая где-то рядом. Съежилась впереди сидящая дама (не с Кировского ли завода? На афишах Филармонии с удивлением обнаружил такой абонемент: «Для трудящихся Кировского завода». Совсем на шею сели).
Описываю начало Симфонии № 5 Шостаковича по кадрам. Как это запомнилось мне. В музыке я дилетант. Ничего не смогу сказать про эту симфонию. Кроме того, что в первой части унесся в свое детство, ободранное. Я прицепился к последнему вагону, несшемуся из Алма-Аты в Чимкент. Эвакуация. Мы живем в маленьком театре, рядом со сценой. Под сценой тоже кто-то живет… У меня от вшей поднялась температура – до сорока. Стою голый на скамейке, а мать кидает в буржуйку все мои вещи, одежду. Плачет Лева, младшой брат. Вши трещат в огне… И как воровал, вспомнил. Я не был карманником, у меня был другой «профиль» – огороды. Любил бить пионеров – и за то, что сыты, и так – ни за что… Заиграл какой-то «стеклянный» инструмент (я потом узнал – челеста!), Мравинский приложил к губам указательный палец и как-то весь «вжался» в себя. Мои видения вместе с челестой улетучились.
В образовавшейся паузе зал кашлял. Кашляющий город, особенно в эту пору – осенью. Мравинский поморщился – ждал, чтобы зал затих. Здесь, в Филармонии, кашляют, когда в музыке пауза, у нас в театре – когда придется. Редко кто додумается выкашляться в коридоре.