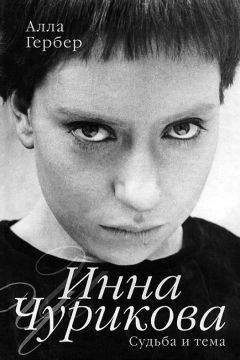Как удержать, как спасти? Но все это произойдет потом. Через годы — в ее глазах, через секунды — на наших. А пока слышим: «Хорошее было время!» И уходим вместе с ней в прошлое, которое было хорошим и… временным. Было. Все было. Оборвалось.
Анна, буфетчица из Чулимска, — бывшая Паша и бывшая Саша — заброшена так далеко, что и податься некуда.
— Куда ни повернись — тайга, — говорит она сухо, без надрыва, как о чем-то таком, с чем бороться бесполезно. — В любую сторону, на сотни верст — тайга. Другой раз как подумаешь, душно делается.
Героиням Чуриковой бывало трудно, одиноко, страшно. Но то были моменты жизни, ее эпизоды. В тихом признании Анны — вся ее жизнь. Каждое утро, ровно в восемь, восходит Анна на свое рабочее место. Идет важно и плавно. Независимо и отчужденно. Идет хозяйка буфета, Чулимска, своей жизни. Но в том, как старательно держит спину, как смотрит прямо, в одну точку, чувствуется внутреннее напряжение, тревога, озабоченность. Как будто кто-то преследует ее, она это знает и приказывает себе: не оглядываться. Паша Строганова из города Речинска училась ходить на каблуках. Анна Васильевна из Чулимска от них устала. Белая, через плечо, сумочка Паши, как бумажный змей, летела впереди. Белая сумка Анны тянет вниз, как бы высоко она ее ни держала.
В этой картине («Валентина»), как ни в одной другой, Глеб Панфилов освобождает экран от быта, почти впрямую перенося пьесу Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» с ее условной театральной декорацией в свое кино. Решение, требующее идеального актерского ансамбля, способного заполнить экран не только своей жизнью.
Мы так до конца фильма и не увидели многочисленных посетителей чулимской чайной — Чурикова все отыграла сама. И постепенно, с каждым кадром чайная «набивалась» людьми. Их нет на экране, но слышим: гудят, шумят. И сквозь этот нарастающий гул прорываются голоса.
Требовательный: «Ну, Анна!»
Просительный: «Ну еще одну, Анна!»
Угрожающий: «А я говорю — давай ее, Анна!»
А в ответ привычное, годами наработанное: «На, подавись… алкоголики проклятые…», «Бегу, разбежалась…», «Как же, испугалась коленки дрожат…», «А ну, вали отсюда…» А кому-то мягко, с напевной нежностью: «Ну что же ты, миленький. Ну потерпи…» А про себя шепотом: «Господи, сил моих нет». И «слышим», глядя на ее лицо, как набирает «веселье» чулимская чайная — все откровенней беседы, крепче доказательства, яростней угрозы.
«Видим», как сжимаются чьи-то кулаки, белеют в гневе глаза. И кто-то уже замахнулся, вот-вот опустит руку. Но именно в этот момент (мы успели в это поверить) в проеме окна покажется Анна (Панфилов словно вписывает ее в оконную раму) — и все сникнут. Потому что всякий раз, когда Анна, точно прислушиваясь к чему-то в себе, в тайге, в нас, появляется в окне своего буфета, мы сначала удивляемся ее откровенной иконописности, а после понимаем, что это она сама. Ее изначальная суть, которая вдруг пробивается наружу, снимая с лица все наслоения жизни, освещая его неиссякаемым внутренним светом. В глазах — молитва: «Как помочь?!» На устах — бранное, уличное: «Дружок твой ковыляет, идол безобразный…» Это о муже, Афанасии, когда-то, видно, красивом человеке, на лице которого не следы, а раны жизни. И опять, теперь уже в голосе Анны, мы чувствуем ту же тревогу, ту же настороженную неуверенность, что и в утренней важной походке, нарочито-независимой осанке. И понимаем именно в этот момент (как всегда у Панфилова, в самый неожиданный, самый непохожий на чудное мгновение), что пришел он. Не идол, а любимый. Не безобразный, а прекрасный. И долгая, изнурительная перепалка все из-за той же проклятой бутылки не разрушает, а укрепляет нашу догадку. Казалось бы, где уж тут любовь? Он понукает: «Ну, Анна!» Она огрызается: «Что ну-то? Ну да ну. Поехали, что ли?» Он наступает: «Кому говорят?» Она привычно отводит удар: «Бегу, разбежалась». Он делает последнее предупреждение: «Смотри, Анна, ты у меня с утра выпрашиваешь». С утра?!
Так вот откуда эта нарочито королевская поступь и неестественно гордо закинутая голова, когда она шла утром на свое, как сама говорит, рабочее место! Диалог не сегодня придуман. Мизансцена не сегодня поставлена. Ясно, что он все равно добьется своего, а она, хоть и «держит оборону», все равно уступит.
В этой, судя по всему, на годы затянувшейся игре каждый знает свою роль. Но не проигрывает ее, а всякий раз заново проживает пока неведомую нам драму их отношений. Но драму — и это мы (спасибо актерам) понимаем сразу. И то, что он — пострадавший, то есть знающий цену своим страданиям и потому требующий за них расплаты, а она — страдающая, то есть ничего не требующая, — тоже понимаем. На поверхности — раздражение, озлобленность. Внутри — истерзанная, израненная, но любовь. Да, любовь — только загнанная в такие дебри, где ей душно, муторно, и все-таки вырывается на волю и хрипло кричит — «Я здесь, я еще живая!» — в самый убийственный для нее момент.
Сначала смешно (и зал хохочет): «А я говорю… неси ее». — «А я говорю — нет». Но постепенно сникает наш неуместный, как выясняется, смех. И когда она, подавляя рыдания, зажимая в глазах слезы, в последний раз повторяет: «А я говорю, сам… ее неси» — и с силой не ставит, а вбивает в стол бутылку, перед нами непритворная, незащищенная (только избитая, искалеченная) любовь.
Не открытая, как у Тани Теткиной.
Не привычная, как у Лизы Уваровой.
А запрятанная под таким «некультурным слоем» (у Паши как раз под «культурным»), что, кажется, не добраться, не раскопать. Чурикова достает ее с самого дна этой забитой бутылками ямы.
Была юная, чистая, как Валентина (ее сегодняшняя помощница), Анна. Был красавец Афанасий. И была война, на которую она провожала его, как Теткина своего Алешу. И ждала, ждала — до одурения, до старения. Не месяцы. Годы.
В долгом его ожидании (пятнадцать лет!) она согрешила — случай, тоска, бабье одиночество. А кругом — тайга, и некуда деться, и хоть кричи, хоть вой — никто не услышит. Он вернулся и нашел прежнюю, верную ему Анну. Не изменившую, а оступившуюся. Сам жертва обстоятельств, пострадавший не за свою вину, он так и не простил ей не своего ребенка. Эту информацию мы вместе со следователем Шамановым получаем от аптекарши Зиночки. И та же Зиночка, с ее обостренным женским чутьем, говорит: «Она его любит, и он ее — тоже». И это в ту минуту, когда их ссора вот-вот готова была перейти в драку («Вон из моего буфета!.. Кому говорят!.. Пошел отсюда!..»)!
Невероятное у Чуриковой опять становится вероятным. И как чудо — рисунки Теткиной, которые славят жизнь, когда вокруг смерть, так чудо — любовь Анны, которую она сберегла под грязью, не дав ей задохнуться.