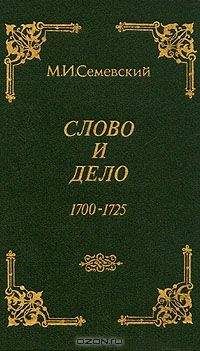Пушкин в Одессе
Если бы поэт был действительно командированным по службе в Кишинев, он, как и прочие служащие, имел бы право на отпуск. По истечении трех лет Пушкин попытался реализовать предполагаемое право. 13 января 1823 г. он в официальном рапорте на имя К. В. Нессельроде просит об этом руководителя внешнего ведомства России:
«Граф.
Будучи причислен по повелению его величества к его превосходительству бессарабскому генерал-губернатору, я не могу без особого разрешения приехать в Петербург, куда меня призывают дела моего семейства, с коим я не виделся уже три года. Осмеливаюсь обратиться к вашему превосходительству с ходатайством о предоставлении мне отпуска на два или три месяца…».[63]
Командированному «по службе» отпуск, как отмечено, был положен. Но Пушкин-то не был таковым, а являлся сосланным, и ему никакого отпуска, естественно, не полагалось. Царь помнил, за что сослал молодого поэта, и вовсе не был намерен возвращать его из ссылки. 27 марта 1823 г. Нессельроде сообщил Инзову о царском решении по делу:
«Вследствие доклада моего о сем государю его величество соизволил приказать мне уведомить г-на Пушкина через посредство вашего превосходительства, что он ныне желаемого позволения получить не может».[64]
Не может, и все тут. Не обязан же в самом деле император (!) снисходить до объяснения своих решений какому-то коллежскому секретарю. Все по-царски и все по-нессельродовски.
В начале августа 1823 года Пушкину (опять-таки по ходатайству друзей) удалось переехать из Кишинева в Одессу. Как место ссылки Одесса (крупный морской порт, оперный театр, просвещенная публика) была предпочтительнее заброшенно-провинциального Кишинева. Однако, по всей видимости, для переезда были и другие, более веские, причины, в том числе и связанные с полицейским надзором над ссыльным поэтом. Как справедливо считал Б. Мейлах, успехи тайной полиции в борьбе с прогрессивным революционным движением на Юге России (арест В. Ф. Раевского, опала М. Ф. Орлова, увольнение из армии П. С. Пущина) не могли не внушить Пушкину «серьезную тревогу и о своей дальнейшей судьбе».[65] Поэт не мог не чувствовать, что и он своими связями с указанными лицами, попавшими в поле зрения агентуры политического сыска, также представлял интерес для тех, кто, например, выследил того же Раевского. Кроме того, сам Пушкин догадывался, что кишиневской ячейкой Южное тайное общество не ограничивалось, и в этом смысле его не такие уж редкие «заезды» в Каменку были не лучшим доказательством его лояльности к правительству. Все обращения «наверх» об отпуске или хотя бы кратковременном возвращении в Петербург обернулись официальным отказом. Пушкину стало ясно, что ему по-прежнему не верили, и его кишиневское окружение и кишиневский надзор были в этом отношении не последней тому причиной. Требовалось сменить обстановку, поэтому Одесса в некотором роде представлялась местом даже заманчивым.
Однако едва ли не с первых дней жизни в европеизированной Одессе настроение поэта не только не улучшилось по сравнению с кишиневским, но, может быть, даже ухудшилось. Возьмем, к примеру, первые два из сохранившихся писем поэта из Одессы. Первое – П. А. Вяземскому от 19 августа 1823 г.: «Мне скучно, милый Асмодей, я болен, писать хочется, – да сам не свой (курсив наш. – А. Н.)» (10, 63). Второе (по сути дела, разъяснение первого) – брату Льву, написанное шесть дней спустя: «…Я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу – я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и ей-богу обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объясняет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе – кажется и хорошо, – да новая печаль мне сжала грудь (курсив наш. – А. Н.) – мне стало жаль моих покинутых цепей» (10, 64).
С новым своим начальником – графом М. С. Воронцовым отношения у Пушкина не сложились. Менее чем через год поэт пишет своему другу и покровителю А. И. Тургеневу: «Воронцов – вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое» (10, 96). Причин «неуживчивости» поэта с Воронцовым несколько, но главные из них – две. Одна – личного плана (ревность одесского начальника и досаждавшие ему эпиграммы поэта), другая же – более официального порядка. Воронцов, приступая к исполнению обязанности генерал-губернатора, предпринял энергичные шаги в направлении экономического развития вверенного ему края. Однако вместо ожидаемого высочайшего благоволения и одобрения своей деятельности он ощутил явные знаки монаршьего неудовольствия (царь, например, обошел его при награде, заслуженно им ожидаемой). Не без помощи своих петербургских друзей, близких к придворным кругам, он понял, что дело заключается в ослаблении контроля за общественно-политической обстановкой в Одессе и крае, который он за своими экономическими преобразованиями, по мнению царедворцев, несколько запустил. Чтобы вернуть прежнее расположение царя, надо было действовать. К тому же он прекрасно сознавал, что одним из «возмутителей» его одесского спокойствия был ссыльный поэт. Так, уже в письме от 6 марта 1824 г. царскому любимцу – графу П. Д. Киселеву (в расчете на то, что основное содержание его станет известно Александру I) Воронцов следующим образом объясняет свое отношение к поэту: «…Я хотел бы, чтобы повнимательнее присмотрелись к тому, кто в действительности меня окружает и с кем я говорю о делах. Если имеют в виду Пушкина и Александра Раевского, то по поводу последнего скажу Вам, что я не могу помешать ему жить в Одессе, когда ему того хочется… но… я лишь едва соблюдаю с ним формы, которые требуют благовоспитанность… Что же до Пушкина, то я говорю с ним не более четырех слов в две недели, он боится меня, так как хорошо знает, что при первых дурных слухах о нем я отправлю его отсюда и что тогда уже никто не пожелает взять его к себе; я вполне уверен, что он ведет себя много лучше и в разговорах своих гораздо сдержаннее, чем раньше, когда находился при добром генерале Инзове… По всему, что я узнаю о нем и через Гурьева (одесский градоначальник. – А. Н.), и через Казначеева (правитель канцелярии Воронцова. – А. Н.), и через полицию (курсив мой. – А. Н.), он теперь вполне благоразумен и сдержан; если бы было иначе, я отослал бы его, и лично я был бы этому очень рад, так как не люблю его манер и не такой уж поклонник его таланта…»[66]
В интересующем нас плане (размеры гласного и тайного надзора над поэтом) отметим следующие особенности письма. Во-первых, насколько «всерьез» одесский генерал-губернатор в отличие от Инзова осуществлял в отношении поэта свои надзорно-полицейские функции. Во-вторых, этим озабочен не только Воронцов, но и полиция и другие официальные должностные лица. Некоторые из них в отношении Пушкина были настроены куда более враждебно, чем Воронцов. Так, уже в январе 1824 года военный генерал-полицмейстер 1-й армии И. Н. Скобелев писал главнокомандующему этой армии: «Не лучше ли бы оному Пушкину, который изрядные дарования свои употребил в явное зло, запретить издавать развратные стихотворения?… Я не имею у себя стихов сказанного вертопраха, которые повсюду ходят под именем „Мысль о свободе“. Но, судя по выражениям, ко мне дошедшим (также повсюду читающимся), они должны быть весьма дерзки… Если бы сочинитель вредных пасквилей немедленно, в награду, лишился нескольких клочков шкуры, было бы лучше. На что снисхождение к человеку, над коим общий глас благомыслящих граждан делает строгий приговор? Один пример больше бы сформировал пользы, но сколько же, напротив, водворится вреда неуместною к негодяям нежностью».[67]


![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/44540/44540.jpg)