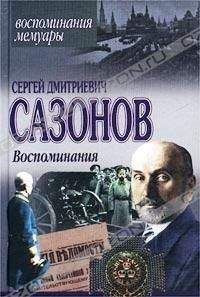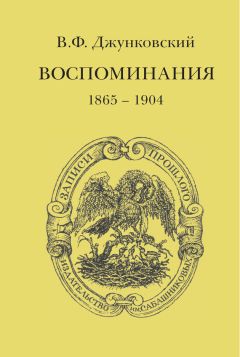Возвращаюсь к моей первой поездке во Францию в конце ноября 1911 года. После официального посещения президента республики Фальера в Рамбулье где он находился во время моего приезда в Париж, я имел несколько деловых свиданий с председателем совета министров г-н Кальо и министром иностранных дел г-н де Сельвом.
Французское правительство и в ещё большей степени общественное мнение были в эту пору под тягостным впечатлением германской попытки добиться, в противовес занятию французскими войсками Феца, от Франции новых уступок в марокканском вопросе. Этой цели должна была послужить неожиданная посылка германского военного судна в Агадир, якобы для защиты в этом незначительном порту довольно сомнительных интересов германских подданных. Г-н Кидерлен-Вехтер надеялся вынудить французское правительство пойти на признание германских интересов в Марокко для того, чтобы иметь средство достигнуть выкупа Францией этих интересов ценой значительных территориальных уступок во французских центральноафриканских владениях. На все растущее в Германии желание колониальных приобретений определенно указывает следующее место донесения русского посла в Лондоне, графа Бенкендорфа, от 6/19 июля 1911 года. В нём посол передает заявление, сделанное германским послом в Лондоне, графом Вольф-Меттернихом, сэру Артуру Никольсону, занимавшему пост помощника статс-секретаря по иностранным делам, такого содержания: «Между 1866 и 1870 годами Германия сделалась великой державой, но побежденная ею Франция и Англия поделили между собою мир в то время, как Германия получила одни крохи. Теперь настала для Германии минута предъявить свои законные требования».
Агадирский инцидент создал чрезвычайно обостренное положение между Францией и Германией и грозил одно время вовлечь европейские великие державы во всеобщую войну. Русская дипломатия использовала наступившее после потсдамского свидания заметное улучшение своих отношений с Германией, чтобы воздействовать умеряющим образом на берлинские настроения. Этой же цели способствовали заявления английских министров в Палате Общин о невозможности для Англии оставаться безучастной зрительницей упрочения Германии на Африканском побережье Атлантического океана, где её появление могло бы угрожать морским сообщениям Англии с Южной Африкой. После этого вмешательства держав Тройственного согласия дипломатические переговоры между французским и германским правительством пошли более ускоренным ходом и привели в октябре 1911 года к заключению между ними соглашения, по которому Германия признала особые права Франции в Марокко, которая, в свою очередь, уступила ей часть своих владений в Центральной Африке. Хотя эта сделка, как это обыкновенно бывает, подверглась критике как во Франции, так и в Германии, она тем не менее являлась, по обстоятельствам времени, лучшим исходом из затянувшегося спора, который принимал порой характер серьёзной международной опасности. В сущности обе стороны не имели основания быть недовольными состоявшимся соглашением и, может быть, Франция даже более Германии, так как, устанавливая свой протекторат над Марокко, она дополняла чрезвычайно ценным приобретением свои северо-африканские владения и уступала взамен того противнику, хотя и довольно обширную, область, из которой она до тех пор извлекала весьма мало пользы.
Марокканское соглашение 1911 года спасало самолюбие германской дипломатии, но не может быть названо её успехом. Заслуга Кидерлен-Вехтера состоит в том, что, убедившись, что симпатии Европы на стороне Франции, он отказался натянуть струну до разрыва и тем отсрочил на три года катастрофу, вызванную после его смерти преступным легкомыслием Бетмана-Гольвега и его дипломатических сотрудников.
Темой моих разговоров с президентом Фальером и г-ми Кальо и де Сельвом по прибытии моём в Париж служило прежде всего благополучное окончание марокканского кризиса, дававшее Франции и всей Европе возможность облегченно вздохнуть на некоторое время. Французское правительство признавало ценную помощь, оказанную ей Россией в Берлине, и выражало мне за неё свою признательность. Беспристрастие заставляет меня признать, что решающим моментом в разрешении политического кризиса 1911 года было, однако, твердое заявление английского правительства о своей солидарности с Францией. При этом я не могу не выразить убеждения, что если бы и в 1914 году сэр Эдуард Грей, как я о том настойчиво просил его, сделал своевременно столь же недвусмысленное заявление в плане солидарности Великобритании с Россией и Францией, он этим спас бы человечество от того ужасающего катаклизма, последствия которого подвергли величайшему риску самое существование европейской цивилизации.
Я уже упоминал о том, что моё стремление достигнуть удовлетворительных отношений между Россией и Германией во время потсдамского свидания государей навлекло на меня во Франции и в Англии подозрение в германофильстве. Мое первое официальное посещение Парижа дало мне желанный повод рассеять в умах наших союзников это ошибочное представление, и я надеюсь, что после вполне откровенных разговоров с французскими министрами мне удалось твёрдо установить в их глазах моё истинное политическое мировоззрение. Главным аргументом при этом мне служило высказанное им моё убеждение в необходимости для России, как в её собственных интересах, так и в интересах всей Европы, достигнуть возможно удовлетворительных отношений с Германией и таким способом содействовать укреплению европейского мира. Помимо этого поддержание старой дружбы между русским и прусским царствующими домами давало нам возможность проявлять наше умиротворяющее влияние на германское правительство к выгоде самой Франции, что нами и было неоднократно с успехом выполнено в критические моменты франко-германских дипломатических столкновений за период времени, начавшийся с 1875 года и вплоть до агадирского эпизода.
Председатель совета министров г-н Кальо произвел на меня впечатление человека, одаренного в самой высокой степени теми особенными свойствами ума, которые составляют как бы монополию французского народа. В стране, где даровитость и блестящее остроумие не являются уделом отдельных лиц, а настолько широко распространены во всех слоях народа, что перестают казаться счастливым исключением и становятся почти общим правилом, теряя при этом в значительной степени свою прелесть, глава французского правительства казался в этом отношении чем-то вроде исключительного явления. Приходится жалеть, что благодаря некоторым присущим ему недостаткам его политическая карьера оборвалась при печальных обстоятельствах в такую пору жизни, когда менее выдающиеся люди только начинают закладывать её основание, и что редкие его дарования не дали родине его всего того, что она была вправе от него ожидать.