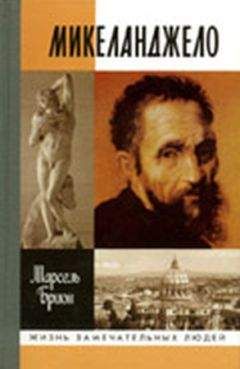— Женщины, прячьте вино, — предупреждал он, стоя за дверью, — необрезанный идет…
Младший Шмидт имел зуб на ленчинских евреев, которые не брали его в шабес-гои, и поэтому стал распространять среди мужиков историю о том, что евреи обманом заманили христианское дитя в микву, где собралась вся община вместе с раввином. Шойхет, реб Иче, зарезал ребенка своим ритуальным ножом[93], а банщик Эвер отнес христианскую кровь в специальном сосуде к Хасклу-пекарю, который смешал ее со святой водой, специально начерпанной в реке, и замесил мацу. Эту историю младший Шмидт распустил не только среди швабов в колониях, но и в польских деревнях. Весть стала стремительно распространяться от деревни к деревне. Был как раз канун христианской Пасхи, когда мужики особенно злы на евреев за то, что те распяли их бога, и крестьянская кровь закипела. Вскоре среди мужиков тоже нашлись свидетели, которые видели, как заманивали христианское дитя. Однажды Янкл-бродяга, который ходил по деревням, скупая свиную щетину, вернулся в местечко с разбитой головой. Так где-то на дороге мужики отомстили ему за пролитую христианскую кровь. Когда Лейбуш-пекарь поехал по деревням на своей подводе, груженной хлебом, его забросали камнями. Реб Иче-шойхет боялся показаться в окрестных деревнях, куда евреи-арендаторы приглашали его зарезать теленка или курицу. Мужики грозились, что во время ярмарки, как раз перед Пейсахом, они явятся с засапожными ножами и перережут евреев, которые пьют христианскую кровь.
Евреи жили в страхе. На ночь закладывали двери и ворота. Почтенные обыватели отправились к помещику Христовскому искать защиты. Помещика, который к тому же был судьей, вся эта история только рассмешила. Христовский был безбожником, никогда не ходил в костел и говорил евреям, что все хотят денег, кроме Йойзла[94], потому что тому взять нечем: руки приколочены… Но как судья он счел своим долгом выяснить, не пропадал ли у кого из христиан ребенок. Ни у кого ребенок не пропадал. Мужики, однако, продолжали настаивать на том, что евреи зарезали христианского младенца. Положение становилось угрожающим. Поэтому ленчинский богач реб Иешуа-лесоторговец запряг свою бричку парой лошадей, надел широкую бурку с капюшоном и помчался в Сохачев к русскому начальнику просить, чтобы тот прибыл в Ленчин со стражниками и защитил евреев от разгневанной толпы.
Рыжебородый начальник и не думал спешить. Однако, когда реб Иешуа дал ему на лапу, смягчился, уселся в бричку реб Иешуа, приказал десятку полицейских следовать за ним на подводе и отправился в путь. Явились они накануне ярмарки. В местечко уже начали группами собираться крестьяне. Начальник направился к микве, у которой как раз толпились мужики. Евреи тоже пришли туда. Все стояли, обнажив головы перед рыжебородым начальником. Привели немца, младшего Шмидта, и стали его допрашивать.
Шваб гладко, со всеми подробностями, рассказал, как на его глазах Эвер-банщик нес ведро с красной жидкостью.
— Где это ведро? — строго спросил начальник.
— Вот оно, ясновельможный пан, — ответил Эвер и принес ведро, красное от краски, которой замазывали окна.
Начальник со смехом показал ведро толпе.
— Крестьяне, это кровь или краска? — спросил он.
— Краска, ясновельможный пан! — сказали крестьяне.
— У кого-нибудь ребенок пропадал, крестьяне? — снова спросил начальник.
— Ни у кого не пропадал, ясновельможный пан! — хором ответили крестьяне.
— Как же тогда могли зарезать ребенка, если все ваши дети живы и здоровы, а, крестьяне? — спросил начальник.
— Не знаем, ясновельможный пан! — испуганно отозвались крестьяне. — Только этот шваб Шмидт сказал, что он своими глазами видел, как евреи зарезали христианское дитя в микве…
Начальник схватил долговязого шваба за отвороты его тесноватой куртки и встряхнул его:
— Что ты видел, сукин ты сын? Когда ты это видел? Где ты это видел?
Мужик что-то залепетал. Начальник наградил его такой оплеухой, что долговязый покатился кубарем.
— Я с тебя шкуру спущу, сукин ты сын, если правду не скажешь! — загремел начальник.
Немец упал на колени и принялся бить себя кулаками в грудь.
— Выдумал я, ясновельможный пан! — заплакал он. — Не дают они мне работы, эти евреи. Все дают моему брату, а я с голоду помираю.
Начальник выпятил увешанную медалями грудь.
— В Сибирь тебя упеку за то, что народ бунтуешь! — закричал он. — В цепях у меня сгниешь, сукин ты сын!..
Стражники уже приготовили было веревку, чтобы вязать стоящего на коленях немца, но начальник приказал им убрать ее.
— Разложите-ка этого сукина сына и отсчитайте ему дюжину горячих по голой заднице, — приказал он стражникам, — а потом пусть проваливает.
Не успели мы глазом моргнуть, как долговязый мужик уже лежал вверх своим тощим задом перед толпой.
— Езус! — воззвал он по-немецки.
Стражники с оттяжкой прошлись своими ремнями по его костлявому заду, медленно считая удары.
Каждый удар начальник сопровождал порцией нравоучений.
— Так будет с каждым, кто станет бунтовать народ, распространять враки, — грозил он. — Я требую, чтобы в моем уезде был порядок, крестьяне.
С трудом передвигая ноги, пошатываясь, выпоротый шваб побрел домой, в свою клетушку, которую снимал у крестьянина. А начальник посетил бесмедреш и лавки, чтобы проверить, поддерживается ли в местечке чистота. Однако никогда еще Ленчин не был таким чистым, как в тот раз. Мужчины спешно завалили землей мусор под стенами. Женщины перед входной дверью засыпали желтым песком то место, куда они круглый год выливали помои. Эвер-банщик, который заодно был шамесом в бесмедреше, по такому случаю подмел святое место, начистил шестисвечники и протер полой своего халата закопченные стекла керосиновых ламп. Начальник торопился к помещику Христовскому на обед. К тому же реб Иешуа-лесоторговец не отходил от начальника ни на минуту и с улыбкой заглядывал ему в лицо, чтобы тот смягчился и не судил строго. Начальник смягчился.
— Должен быть порядок, — предупредил он, поглаживая свою рыжую бороду.
Он задал только один трудный вопрос. Из расспросов он понял, что в местечке имеется раввин, и он хотел знать, как это могло случиться без того, чтобы власть была поставлена в известность, потому как официально община Ленчина относилась к Сохачеву и находилась в ведении тамошнего раввина.
Мой отец с заложенными за уши пейсами, потому что официально он не был раввином и по закону не имел права носить пейсы и раввинскую одежду[95], в страхе предстал перед начальником. Ко всему прочему, он не понимал ни слова по-гойски: ни по-русски, ни по-польски. Реб Иешуа-лесоторговец вышел из положения.