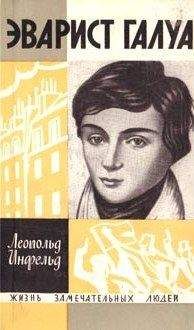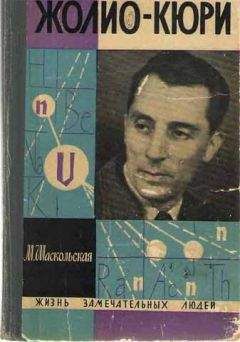— Я пришел сообщить вам нечто важное. Я уверен, что большинство из вас, а может быть и все, с радостью примут мое сообщение.
Он помедлил и обвел взглядом молчаливую, завороженно слушающую аудиторию.
— Нам давно известно, что кое-кто из учеников пытался сеять среди вас смуту и недовольство. Беззастенчиво обманывая вас, они плели небылицы, распространяли лживые слухи. Они пустили слух, будто бы с согласия нашего директора мсье Берто школа вновь попадет в руки иезуитов. Не приходится говорить, что это ложь, и ложь весьма глупая. Ученики, пустившие подобный слух, прекрасно знали, что это неправда. Однако — и, я уверен, неосновательно — они полагались на глупость своих товарищей. Они взывали к вашему чувству дружбы и товарищества. Они старались вас уговорить, но были готовы, если нужно, прибегнуть к страху и насилию. Они попытались поставить вас под удар, рассчитав свои действия таким образом, чтобы вы понесли наказание вместе с ними. К счастью, я могу сообщить вам новость, которую вы будете рады услышать.
Он вдруг театрально возвысил голос:
— Этих учеников — их сорок человек — сегодня исключили из Луи-ле-Гран.
В классе было тихо; на зловещем фоне тишины потрескивание нескольких горящих свечек казалось невыносимо громким. Сорок учеников, самых лучших, исключены из Луи-ле-Гран! Вырваны из среды товарищей и брошены туда, где их ждет гнев или отчаяние родителей. Деланно-трагический голос помолчал как раз столько мгновений, сколько требовалось, чтобы и самый тупой ученик понял, что кроется за этой фразой: то, что произошло здесь, в четвертом классе, повторилось в каждом классе Луи-ле-Гран. Ученики вспомнили повозки: теперь стало ясно, что странные звуки были криками протеста; каждый грохот повозки означал, что еще один из вожаков задуманного бунта навсегда покинул лицей. Властный голос продолжал:
— Эти ученики никогда не вернутся в Луи-ле-Гран. Им, вероятно, придется расстаться с надеждой продолжить свое образование во Франции. Отныне вы свободны: больше им вас не запугать. Можете учиться без помех.
Напряженно-драматический тон сменился невозмутимо спокойным:
— Хотелось бы думать, что с этим инцидентом покончено. Кое-кто среди вас повинен в том, что пренебрег своим долгом и не сообщил дирекции о планах мятежа. Но если это и так, мы готовы все забыть и вернуться к нормальным занятиям. Вас прислали сюда учиться. Мы, ваши преподаватели, несем за это ответственность. Вам следует понять: чтобы так поступить, мы должны быть уверены в вашей лояльности. Нам нужно твердо знать, что вас не связывают обещания, возможно данные вами зачинщикам бунта. Иначе, вполне очевидно, что если вы разделяете их взгляды, вам надлежит разделить и их участь. Вы, несомненно, согласитесь, что это и логично и справедливо.
Он огляделся по сторонам, чтобы посмотреть, считает ли тут кто-нибудь его рассуждения нелогичными или несправедливыми. Никто не проронил ни звука.
— Мне и — я уверен — вам всем хотелось бы покончить с этим тягостным происшествием. Но прежде я хочу, чтобы вы дали клятву верности нашей Школе, Я хочу, чтобы вы сказали мне, что не чувствуете себя связанными никакими обещаниями, которые вы дали добровольно или по принуждению. Я назову ваши фамилии, одну за другой. Те из вас, кто стоит за порядок, дисциплину и верность нашей школе, подтвердят это, сказав «обещаю». Вы понимаете, разумеется, что вас никто не заставляет. Вы должны дать обещание по собственной доброй воле. Иначе оно ничего не стоит. Читаю список. Аделье. Встал худенький мальчик и робким, дрожащим голосом прошептал:
— Обещаю.
— Нужно говорить громче, чтобы нам всем было слышно. И только по собственной воле, не иначе.
Сквозь слезы мальчик повторил громче:
— Обещаю.
— Вот это другое дело.
Эварист почувствовал, что у него заледенели пальцы, а щеки и лоб горят как в огне. Не разжимая плотно сомкнутых губ, он неслышно произнес:
— Обещаю! Обещаю! Обещаю тебе, что никогда в жизни не забуду этот страшный урок вероломства и лицемерия. Ненавижу тебя и таких, как ты. Ты научил меня понимать, что такое ненависть. Отец старался мне внушить, что можно жить без злобы. Только не здесь, не в Луи-ле-Гран! Людей вроде тебя я всегда буду ненавидеть — таких, которые угнетают слабых. Я буду драться против тебя и подобных тебе, где и когда бы я вас ни встретил. Обещаю! Клянусь перед богом, клянусь всей душой. Обещаю…
Эварист услышал спокойный, безразличный голос:
— Галуа.
Он встал. Страдание, гнев, страсть прозвучали в крике:
— Да, я обещаю!
Мсье Эмон поднял голову и увидел юное треугольное лицо с широким лбом и заостренным подбородком. Глубоко посаженные глаза, казалось, пронизывали его насквозь. Мсье Эмон с усилием отвел взгляд и, прежде чем назвать следующего, пробормотал:
— Очень странный мальчик.
Год 1824, среда, 28 января
Каждый год на Сен-Шарлемань, в день школьного праздника, заранее отобранные лучшие ученики присутствовали на банкете. Потоки латыни и цветистого французского красноречия низвергались во время банкета из уст профессоров и студентов.
Праздничный банкет в среду 28 января 1824 года был не похож ни на один другой в долгой истории Луи-ле-Гран. За несколько недель для участия в банкете отобрали сто пятнадцать учеников. Накануне праздника сорок из них были отправлены по домам.
Огромная, ярко освещенная столовая была украшена папоротником и цветами. За трибуной, где стоял длинный стол для профессоров, висели на стене белые флаги с гербовыми лилиями Бурбонов. Столы для учеников стояли под прямым углом к помосту, где находился стол для надзирателей.
Молча вошли семьдесят пять учеников, одетых в воскресную синюю форму. Они посмотрели на пустые тарелки, стоящие перед ними, на сорок незанятых мест. В комнату вошла процессия преподавателей во главе с мсье Берто. Ученики встали, почтительно опустив глаза. Потом смиренно уселись, как побитые собаки, которым задали хороший урок.
Директор победоносно осмотрел сидящих внизу учеников. Кое-кто из них поднял голову. Они увидели сияющего директора, рядом — его пятерых заместителей. Поискали глазами проктора, мсье де Гер-ля, человека, который пользовался их любовью и доверием. Но его не было. Он не пожелал стать свидетелем унижения своих учеников. Ни одного дружеского лица там, наверху. Ни одного лица, смягченного жалостью или сочувствием.
Ни слова на трибуне, где сидели профессора. Ни слова среди учеников. Взялись за суп. Подали цыплят. Лишь стук ножей и вилок нарушал тишину. Слышно было даже, как жуют. Комната казалась мрачной и темной, хотя зажжены были все свечи в люстрах. Десерт приняли без замечаний и съели не спеша. Даже шампанское встретили вяло и безразлично.