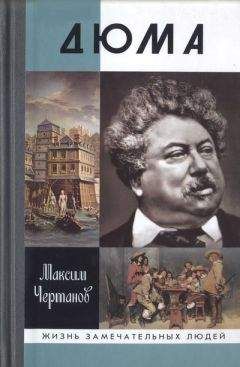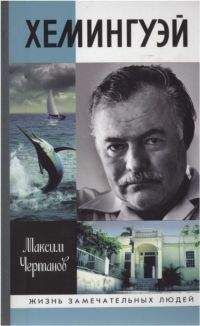Господствовал классицизм: пьеса пишется александрийским стихом (вроде нашего шестистопного ямба), состоит из пяти актов, соблюдено единство действия, места и времени, актеры не бегают, не дерутся, а встанут и декламируют, обязательна мораль: как долг берет верх над чувством. В 1822-м приезжала английская труппа играть Шекспира — ее освистали, вообще относились к Шекспиру плохо. Почему? Французский театр: ясность, точность, изящество; Шекспир: грубость, двусмысленность, бестолковость; «Гамлета» Вольтер назвал «плодом воображения пьяного дикаря». Французы также не любят фантастики, ведьмы и мертвецы им не по нраву. Поэтому пьеса Дюси, где призрак был сном Гамлета и с ума никто не сходил, шла во Французском театре 82 года подряд. Плохи были и английские актеры: кричали, носились по сцене, говорили прозой. Но вкусы менялись: когда в сентябре 1827-го Шекспира привезла английская труппа со звездами Эдмундом Кином и Гарриет Смитсон, ее встречали куда лучше; помог Вальтер Скотт, благодаря которому французы признали, что англичане не совсем чокнутые. Дюма: «Ветер поменялся на западный и принес театральную революцию». Гастроли открылись 7 сентября комедией Шеридана, на нее Александр не попал, но, отстояв полночи в очереди, взял билет на «Гамлета». Играли на английском, он языка не знал, но текст выучил заранее по переводу. «Сцена безумия, сцена на кладбище меня наэлектризовали. Только тогда я понял, какой может быть драма, и из руин моих прежних слабых попыток, разрушенных этим открытием как ударом, в моей голове начало складываться видение нового мира… Впервые я видел на сцене подлинные страсти…»
Он ходил на все лекции и выставки; приятель, Этьен Кордье-Делану (1806–1854), позвал послушать Матье де Вильнава (1762–1846), из чьей книги взят сюжет «Бланш»; он выступал в Пале-Рояле (многие его помещения сдавались в аренду) в рамках лектория «Атеней искусств». В 1839 году Дюма описал себя как слушателя: «Я никогда не мог дослушать до конца ни одного оратора или проповедника. В их речи всегда есть какой-то угол, который я задеваю, и моя мысль вынуждена сделать остановку, в то время как оратор продолжает говорить. После этого я, вполне естественно, рассматриваю предмет уже со своей точки зрения и тихонько начинаю произносить свою речь или свою проповедь, в то время как говорящий делает это громко…» О чем говорил в тот вечер Вильнав, он забыл, думая о его книге и о своей, о том, что Каррье, с которого он писал Дельмара, после очередного переворота сам расстался с головой, и «всё — зал, зрители, трибуна — изменилось: зал Атенея стал залом Конвента; мирные слушатели превратились в яростных мстителей, и вместо медоточивых периодов красноречивого профессора гремело общественное обвинение, требуя смерти и сожалея, что у Каррье только одна жизнь и ее недостаточно, чтобы заплатить за пятнадцать тысяч прерванных им жизней. И я увидел Каррье с его мрачным взглядом, полным угроз обвинителю, я услышал, как он своим пронзительным голосом кричит бывшим коллегам: „Почему упрекают меня сегодня за то, что вы мне приказывали вчера? Ведь, обвиняя меня, Конвент обвиняет себя; приговор мне — это приговор всем вам, подумайте об этом. Все вы подвергнетесь той же каре, к какой приговорят меня. Если я виновен, то виновно всё здесь; да, всё, всё, всё, вплоть до колокольчика председателя!..“».
Делану представил друга Вильнаву и его семье, в тот же вечер Вильнавы пригласили его в гости, и он влюбился в их дочь, тридцатилетнюю Мелани Вальдор, жену военного, мать двухлетней дочки. Изящная шатенка, образованная, возвышенная, пишет стихи, муж служит далеко (и она его не любит); живет с родителями и хозяйничает в литературном салоне отца. Почти все биографы датируют знакомство с Вильнавами июнем 1827 года (так утверждала Мелани), но, вероятно, ошибаются; Дюма писал, что это произошло во время гастролей англичан, да и «Атеней искусств» летом не работал. Первое письмо Александра Мелани датировано 7 сентября (большинство не датированы, и каждый исследователь относит их куда захочет), и это свидетельствует в пользу версии, что встреча состоялась в сентябре: не в его характере было ждать три месяца и не писать, а вот Мелани было невыгодно признаться, что она так скоро пала, — отсюда указание на июнь. «Забудьте мое вчерашнее безумие и мою откровенность, решительность, с которой вы отвергли мысль, что наша дружба может стать чем-то большим, почти излечила меня», — писал он 7 сентября, а уже 12-го: «Теперь я обладаю твоим доверием, я получил твои признания, у меня есть ты!.. Я буду везде, где будешь ты, я могу появляться во всех ваших салонах, эти равнодушные глупцы и не заметят, что я прихожу только ради тебя. Но теперь ты не будешь задыхаться, меня не будет бросать в дрожь, теперь нам обоим надо жить». 22 сентября они стали любовниками, видеться сложно, зато переписка бурная, она терзалась, он утешал: «Давай будем наслаждаться любовью в нашем с тобой маленьком мире для двоих, не будем обращаться мыслями к внешнему миру, где радость смешана с болью». Заметим, что письма Дюма, особенно женщинам — редкий случай для писателя, — не дают представления о его индивидуальности, словно составлены по шаблону: такое впечатление, что к переписке (исключение — письма детям) он относился как к рутине, которую должно совершать по установленным правилам. «Мелани, моя Мелани, я тебя люблю как безумный… тысячи поцелуев горят на твоих губах…»
Она хотела писать, он радовался. Никогда ему не будут нравиться домохозяйки — только женщины, занятые литературой или театром. Он печатал ее стихотворения в «Сильфе», один раз свое подписал ее именем. Она поддерживала в нем стремление к успеху, и салон Вильнавов ему помогал: новых знаний набраться, в «тусовку» попасть. Ее отец знал всех и вся, владел бесценной коллекцией книг, рукописей; человек, правда, был тяжелый, и с ним Александр не сошелся. Но в тот период Вильнав уже редко заходил в гостиную, салоном заведовала Мелани, знакомившая друга с занятными людьми: старая герцогиня де Сальм, первая француженка, учившаяся в лицее, наполеоновский генерал де Сегюр, бывший послом при дворе Екатерины II (рассказывал о России), художники, политики, ученые. Врач Мелани (все дамы из общества были чем-нибудь больны) Пьер Валеран де ла Фоссе сам держал салон, Александр у него бывал, там встретил знакомую по дому Летьера Мари д’Эрвильи, вышедшую за доктора Хайнемана и тоже ставшую врачом: над ней посмеивались, но Александру нравилось, что женщина при деле. 9 ноября на выставке он увидел скульптуру Фелисье де Фаво, изображавшую шведскую королеву Христину с любовником. У него бывало, что картина, скульптура или музыка вызывали желание облечь их в слова, он полез в справочник «Всеобщая биография» и узнал, что Христина Августа (1626–1689), вынужденно отрекшаяся от трона и претендовавшая на ряд европейских престолов, в 1654 году в Фонтенбло приказала убить своего конюшего (а фактически — посланника во Франции) Мональдески. Французы решили не связываться и отпустили ее в Рим. Современники считали, что она убила Мональдески из страсти, нынешние историки полагают, что это была месть за политическое предательство. Дюма решил, что было и то и другое.