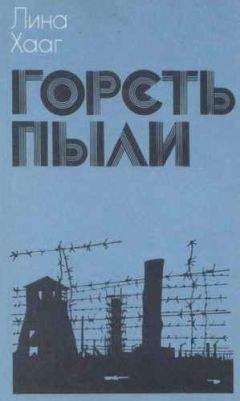На следующее утро у меня обыск.
Господа уводят меня в полицию. Плачущей навзрыд Кетле я даю ключ от комнаты и отсылаю ее к бабушке. Если к полудню не вернусь, значит, я отправилась вслед за отцом.
В полиции мне предъявляют обвинение в том, что я даю приют нелегальным партийным активистам. Говорю, что ко мне приходят люди, очень хорошо известные полиции, поскольку они, как и я, находятся под ее надзором. Так как знаю о существовании провокаторов и, более того, шпионов, в свою очередь наблюдающих за ними, я, разумеется, крайне осторожна.
В конце концов допрашивающий меня чиновник гестапо господин Тумм раскрывает карты. Им нужен находящийся на нелегальном положении партийный активист, который разыскивается уже давно. Известно о нем лишь то, что он очень энергичен, осторожен, часто меняет место своего пребывания, поэтому сведения о нем крайне скудны. С чистой совестью могу сказать, что его не знаю — действительно я не знаю его. Полиция предполагает, что, вынужденный часто менять жилье, он однажды будет искать убежище у меня.
— Знаете что, — говорит внезапно господин Тумм, он говорит это подчеркнуто вскользь, будто это самое естественное дело на свете, — мы заключим с вами выгодную сделку. Вы поможете нам взять этого парня, а мы отпустим вашего мужа.
— Вы?.. — спрашиваю я растерянно.
У него руки в карманах, хочет, верно, показать, какая он важная персона, но он жалкий человечек, я вижу это сразу.
Он обиженно восклицает:
— Да, я! Или сомневаетесь? Не думаете ли вы, что я не в состоянии освободить вашего мужа?
Конечно, не может, если этого не может даже министр юстиции.
— Нет, не сомневаюсь, — лгу я, ибо постепенно начинаю понимать, что сейчас здесь происходит нечто большее, чем простой допрос.
— Ну вот, — говорит господин Тумм, до некоторой степени успокоенный, но все же он продолжает нервничать, прикладывает руку к груди, словно пытаясь утихомирить свое взволнованное сердце. При этом он как бы случайно касается партийного значка на отвороте мундира, и в этот момент становится строгим, физиономия значительной, как у маленьких людишек, принимающих важную позу перед тем, как начать речь.
— У меня полномочия… — говорит он торжественно, — можете мне поверить.
На самом деле у него всего лишь задание организовать розыск преследуемого неизвестного активиста. Да еще, самое главное, в нем живет страх от боязни, что это не удастся. Страх и тщеславие. Видимо, ему очень хочется самому доконать свою жертву. Судя по всему, он новичок, недалекий, но обуреваемый желанием сделать карьеру. Чванливый карьерист, принимающий свою подлость за проницательность. Его фамилия вполне оправдана, потому я хорошо ее запомнила[4].
— Вы, наверное, удивлены, — говорит он самодовольно и закуривает, делая это нервно и торопливо, — что я открываю свои карты?
Большими шагами он ходит по кабинету взад и вперед. Внезапно останавливается.
— Я знаю, почему играю с открытыми картами!
Я тоже знаю. Потому, что я ему нужна. Потому, что он хочет использовать меня как приманку. Обещание освободить тебя — чистое надувательство. Это он считает проницательностью. Теперь он останавливается подле меня.
— Ведь могу я рассчитывать, — говорит он почти умоляюще, в эту минуту он сама искренность и откровенность, — ведь могу я рассчитывать на вашу честную помощь, поскольку я говорю с вами так откровенно и доверительно. Или нет?
— Почему же… — говорю я тихо, напряженно вглядываясь в его мерзкую рожу. Честная помощь, думаю я, откровенно, доверительно…
— Ну вот, — говорит он с явным облегчением, опускаясь в кресло, — значит, мы договорились.
За этим следует ряд указаний, каким образом должна я оповестить полицию в случае, если ко мне придет человек, которого они ищут, и как мне задержать его до прихода представителей власти. Обещают хранить мое имя в тайне. Потом меня отпускают.
— Что ждет вас, — говорит, прищурившись, господин Тумм, когда я уже поворачиваю ручку двери, — что ждет вас, если вздумаете нас одурачить, вам прекрасно известно!
Это я знаю. И все же, если незнакомец появится у меня, я предупрежу его и окажу всяческую помощь. Это само собой разумеется. Как и то, что господин Тумм не выпустит меня из поля зрения, если человек, за которым он охотился, от него ускользнет. В любом случае меня он не упустит. Даже если преследуемый вообще не появится. Тогда, вероятно, тем более. Ибо тогда тщеславная гестаповская ищейка потеряет шансы на успех. Свою ярость он, несомненно, выместит на мне. Он сразу же обвинит меня в том, что я предупредила незнакомца и укрывала его. Так будет в любом случае.
Рассуждая трезво, я при всех обстоятельствах могу лишь проиграть эту «откровенную и честную», эту дьявольскую гестаповскую игру. Так вот оно что! — осенило меня. Сознание этого было столь потрясающим, что я останавливаюсь посредине улицы. (Вероятно, я остановилась.) Ибо внезапно кто-то схватил меня за руку, мимо проносится машина с резко скрипящими тормозами, и сразу вокруг меня люди, какой-то мужчина взволнованно кричит, что еще миг — и я была бы под автомобилем. Будто это так страшно. Мужчина явно разочарован и оскорблен, ибо я смотрю на него с удивлением. А как по-иному я должна себя вести? Тоже вопить? Или сказать ему, что рано или поздно меня арестуют, оторвут от моего ребенка и заключат в тюрьму? Вопреки праву и закону? Просто потому, что мелкий и тщеславный гестаповский шпик хочет выслужиться? И что тогда ни одна из этих любопытствующих женщин, которые сейчас так участливо хлопочут подле меня, не будет. выражать свой испуг или тем более возмущение? Такова жизнь. Такова моя жизнь. Жизнь ли это?
Что знают эти люди обо мне… Глубоко разочарованные, они поворачиваются ко мне спиной. Идут своей дорогой. Им нечего бояться, они ничем не обременены. Ничего не знают о розыске партийного активиста. Гестапо не раскрыло перед ними свои карты, никакой проницательный господин Тумм не ждет от них «честной помощи». Они не загнаны в угол, как я, им не угрожают усиленный полицейский надзор, допрос, новый арест, встреча с незнакомцем. Хотя я не знаю ничего о нем, так же как и они, однако они стоят на почве фактов, а я — нет. Поэтому они спокойно могут пребывать в хорошем настроении, не ведая тревог, заниматься своим делом, довольными и веселыми сидеть в кафе, или щурить глаза на солнце, или наблюдать за играющими на улице детьми.
Ничего этого я не могу. Я могу только ждать. Ждать тебя. Незнакомца. Гестапо. Как отшельница, все еще стою здесь, посредине улицы. Я ходила по ней еще ребенком, это улица моего родного города, знаю эти дома, магазины, арки, людей, но всему этому я больше не принадлежу. В этом мире нахожусь, можно сказать, только временно, меня ничего больше не связывает с милыми приметами моей жизни, которые с удовольствием созерцаю и слышу, но мое сердце растерянно и ощущает их как мучительную насмешку. И я медленно иду домой.