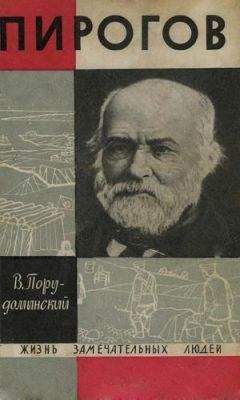— Поехали, господа, поехали!..
Поля сплошной темной полосой текли навстречу. По серому, а у горизонта еще голубому небу расползались дымчатые облака. Кибитку качало, на ухабах встряхивало. Мысли сбивались.
Николай думал о неведомой хирургии, об операциях, которых и не видал почти, о том, что сам он даже зуба не вырвал. Он видел себя с ножом в руке, видел корчащегося на столе больного. У будущего профессора хирургии холодели пальцы, сжималось внутри. При мысли об операции ему становилось страшно.
Многого из того, что прочно связано для нас с понятием «операция», не было и в помине в далекое время, когда начинал Пирогов.
Не было вылизанных до блеска операционных, сверкающей белизны халатов и простынь, не было погруженных в кипящий раствор инструментов, не было упрятанных под маску лиц и затянутых в перчатки рук, страшащихся прикоснуться к чему-либо, кроме инструментов и операционного поля. Засучив, чтобы не запачкать, рукава сюртука, оперировали и в зловонной «гошпитальной» палате и прямо на дому. Дома было чище, чем в госпитале, меньше заразы — операции на дому сходили удачнее. А несколько раньше оперировали и в ярмарочной палатке, где располагался зашедший в город вместе с комедиантами бродячий хирург.
Не знали причин заражения ран. Потому и средств для борьбы с ним в обиходе хирурга почти не было. Чуть ли не всякое хирургическое вмешательство завершалось нагноением. «Простых случаев» не встречалось. Открытый перелом, пулевое ранение конечности, даже нарыв так же часто вели к ампутации, как ампутация — к смерти. Ни один самый искусный хирург не мог предсказать финала ни одной, казалось бы, самой удачной операции.
Не было обезболивания. Решиться на операцию означало подчас не меньше, чем пойти на пытку. От больного требовалось мужество, от хирурга — быстрота. Ампутации, вылущивания суставов, камнесечения умелые хирурги укладывали буквально в считанные минуты. Если во время операции больной не умирал от шока, а после — от заражения, он титуловал такого оператора именем «великого».
Но чтобы действовать быстро, кроме умения, нужно было еще и желание. Иные опытные хирурги ратовали за медлительность, видя в ней синоним тщательности. Иные же считали муки и вопли больного не только неизбежным, но и необходимым спутником операции.
Профессор Текстор в Вюрцбурге оперировал так. Больной, приготовленный к ампутации, лежал на столе. Профессор как можно тише и медленнее вкалывал ампутационный нож насквозь через мышцы бедра. Оставив нож, принимался подробно объяснять аудитории, что и почему он намерен делать дальше. Затем, выкроив по мерке один из кожных лоскутов, снова бросал нож и, стараясь перекричать жертву, рассуждал, как лучше выкроить второй.
Мудрено ли, что многие больные предпочитали смерть в собственной постели от собственной болезни мучительнейшим, хотя, быть может, и спасительным пыткам на операционном столе.
— Она не хочет операции! Она согласна умереть! — кричала молодая девушка, не допуская в дом, где лежала ее больная мать, известного немецкого хирурга Диффенбаха.
— Я лучше умру! — вторила дочери из-за двери больная.
Диффенбах ушел, но ненадолго. Он вернулся через полчаса с двумя женщинами.
— Я сделал сотни удачных грыжесечений, — сказал Диффенбах. — У нас мало времени, и я привел лишь двух дам, оперированных мною. Я не хочу, чтобы вы остались сиротой. Пустите нас к вашей матушке. Эти дамы убедят ее в том, что я следую девизу знаменитого медика древности Цельза, оперируя tuto, cito et jucunde, то есть безопасно, быстро и приятно.
Все вместе с трудом уговорили больную…
Выступая против бездушных «тексторов», Диффенбах писал: «Самым необходимым свойством хирурга считалась жестокость. Но спокойствие и непоколебимость совсем иное, чем жестокость, и при столь болезненном акте, как хирургическая операция, необходимы нежность и бережное отношение».
Матвей же Яковлевич Мудров повторял избравшим хирургию:
— Операция будут совершаться тем реже, чем пристальнее мы будем исследовать ход раздражения натуры. Не спешите с назначением. Не торопитесь клином клин…
— Клин! Да проснись же, Пирогов! В Клин приехали!
По светлому небу ползли разорванные дымчатые облака. Николай не мог вообразить: то ли еще не стемнело, то ли начинало светать.
За последние годы он отвык даже от Волочка. По карману было только пешком ходить. И вдруг кибитка, тракт, да сразу — из Москвы в Петербург! Кони несли весело. Клубилась над дорогой густая, горьковатая пыль. По сторонам менялись картины. То скудный песчаный пейзаж (Николай вообразил даже, что едет по степям аравийским), то ярко-зеленые, радующие глаз холмы, то подступившие к самой дороге густые леса — шорох деревьев, свист и щебет птиц сливались с песней ямщика и однообразным звяканьем колокольчика. Древний Новгород ослепил белой крутизной соборных стен, сияньем упершихся з небо звонниц. Сменяются одна за другою картины, а пути-то всего от Москвы до Петербурга. Наконец и он, Николай Пирогов, сдвинулся с места. Вспомнились любимые в детстве дневники Палласова путешествия. Сколько же еще непройденного, неизвестного! Вперед! Вперед!
Пирогов сдавал экзамен при Академии наук. Его экзаменовал профессор Иван Буш [портрет].
Профессор Буш был учителем Пирогова, хотя лишь на экзамене они встретились впервые и после не встречались много лет.
Учителя — не только те, кого человек видит перед собою на кафедре. Предшественники — тоже учителя. Они расчищают, утаптывают дорожку для разбега. С ними соглашаются, спорят, подчас их отрицают — во всех случаях у них учатся.
И уединенный дуб не сам по себе вырастает среди чиста поля. И он начинается с желудя, который другое дерево бросило в почву. И он, как всякое растение, вскормлен соками своей земли. К тому времени, когда Пирогов только избрал хирургию, в Петербурге уже сложилась первая в России научная хирургическая школа.
Путь к ней начался давно, узкой тропкою. Начинали его костоправы. При войске российском, в битвах с иноземными захватчиками набирались они опыта, становились искусными лекарями. Уже при царе Алексее Михайловиче доносили воеводы, что без лекаря «в полку у нас никоторыми мерами быть не мочно», а полки похвалялись врачами «добрыми и учеными», умеющими «пулки вырезывать», «раны отворять», «выводить» камни и «убирать» из гнойников «вредительную мокротность».
Потом настало время, и сам царь отправился слушать медицинские лекции, изучать препараты, «разнимать» в театре анатомическом мертвые тела. Петр носил при себе два футляра: один — с математическими инструментами, другой — с хирургическими. Умел делать разрезы, пускать кровь, перевязывать раны, выдергивать зубы. Произвел он, известно, и полостную операцию; у жены голландского купца, страдавшей водянкою, выпустил из брюха двадцать фунтов жидкости.