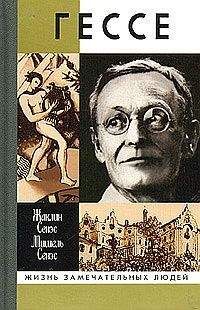«Мои пять чувств, — вспоминал Гессе в „Кратком жизнеописании“ о своем детстве, — были бодрственны, остры и тонки, я мог на них положиться и ждать себе от них много радости». Он ими вовсю пользовался, сидя на коленях отца и теребя его бороду или запутывая на полу клубки Марии. «Он слишком проворный и сильный для меня, — беспомощно вздыхает она. — Маленький Герман отважно карабкается на скамейки, столы и камни». Его живость и ум восхищают: «Он узнает все картинки, будь это изображения Китая, Африки или Индии… он упрям и необуздан!»
Он обитает в саду своих бабушки и дедушки. В этом очаровательном месте его окружают цветы: изысканные флоксы и простые левкои, аквилегии, среди которых он ползает на четвереньках, и какието высокие стебли, концы которых украшены султанам и-бабочками цвета серы. Особенная чувственная алчность притягивает его к каждому блику, к малейшей частичке жизни. «Я владел, — запишет он позднее, — всей сказочной мудростью детства». Больше всего ему нравились «прекрасные, парящие, не ведающие покоя облака… печальные сосны и залитые солнцем скалы».
Он открывает глаза — перед ним его мать. И словно Герман Лаушер, он ловит ее взгляд. «Я вижу тебя опять, мама, — ты склоняешь ко мне свою красивую голову, стройная, гибкая, терпеливая, с несравненными черными глазами». Прижатый к ее груди, он впитывает с молоком ее мелодичный голос. Она смеется, рассказывает веселые истории и, готовя завтрак с маленькими горячими хлебцами, иногда наклоняется к мужу и шепчет нежно: «Джонни, сердце мое!»
Иоганнес воспринимает эту нежность с важностью. Он деликатен, у него хорошие манеры, быть может, даже отчасти чопорные и холодные; уклад жизни, им заведенный, не позволяет пересудам нарушить покой его семейного очага. Склоняя к сыну обрамленное бородкой лицо, он шепчет слова на балтийском наречии, корни которого таятся в могуществе туманного Севера. Он строг в исполнении литургии, с достоинством следует ее суровым ограничениям, он произносит свои патетические проповеди на прекрасных и суровых ступенях церквей долины Нагольда. В сапогах грубой кожи он идет по полям, усеянным крокусами, с марта оживляющими прерии между За-велылтайном и дорогой, пролегающей по пологому склону и ведущей к вокзалу Бад Тайнах.
Высокий дом в Кальве олицетворяет единство суровости и благости, излучаемой чувствительными душами. Под его кровлей сознание серьезности смерти и вместе с тем ее банальности сосуществуют с загадочным постоянством. В июле 1878 года Мария произвела на свет маленького Поля, который тихо угас у нее на руках в один из декабрьских дней. 6 августа 1879 года, в шесть тридцать утра после мучительной грозовой ночи родилась Гертруда, «крохотное кругленькое и полное жизненных сил существо». В декабре у нее началось легочное недомогание. Болезнь продлилась до Святой недели 1880 года, когда жена пастора горячо просила Господа за «блаженную спутницу Его в страданиях», а 31 марта все было кончено. «Господи, я оставляю в твоих руках мое обожаемое дитя», — только и смогла промолвить мать.
Так в Марии говорил пиетизм, и маленький Герман постепенно постигал этот язык. Разговоры, игры, песни, молитвы — печальные события на все бросают тень. Каждую секунду Иоганнес и Мария от всего сердца, как и их предки, готовы принести в жертву свое потомство. Этот героизм покоится на страстной вере, питаемой нежностью и наивностью. Эта вера не угрюмая и не жестокая — она доходит до крайних пределов набожности, до необходимости посвятить себя тесному контакту с Небом отсюда, с земли, с места вознесения. Она требует бессознательно разделить, непрерывно созерцая ее, искупляю-щую страстность Иисуса, его терновые иглы, его раны, его крест, кровь, его смерть, ставшую предметом медитации. Возможно, именно в этом смирении родителей коренится необыкновенно ранняя страсть Германа к протесту. Он внезапно впадает в ярость, рыдает и топает ногами. Он невыносим и горд, у него на все есть ответ. Мать запретила ему кидаться камнями, на что он сказал: «Но Давид делал то же самое, и никто в этом дурного не видел».
Мария черпает свое неиссякаемое вдохновение повсюду: в Священной истории, в сказках братьев Гримм, где прислушиваешься к голосам природы, гармонии лесов, созерцаешь блуждающие облака. Когда она поет на малаяламском, припоминая песни Гозианны, он слушает, затаив дыхание, неуловимо плывущую в воздухе мелодию.
Герман часто видится с дедушкой Гундертом. Индийский миссионер околдован берегами Нагольда, освещен солнцем Вишну: «Он, преклонный годами, досточтимый, с широкой белой бородой, всеведущий и всемогущий», царствует в своем доме, полном воспоминаний. «Безделушки, утварь, цепочки из деревянных бусин, нанизанных наподобие четок, свитки из пальмовых листов с нацарапанными на них знаками древнего индийского письма, изваяния черепах, вырезанные из камня жировика, маленькие божки из дерева, из стекла, из кварца, из глины, украшенные вышивками шелковые и льняные покрывала…все это пахло морем, пряностями, далью, благоухало корицей и сандаловым деревом». Но особенно дед, который понимал «все языки человеческие… а возможно, и наречия богов, а заодно звезд», читал, писал, говорил, как «тайновед, посвященный, мудрец». Герман полон нежности к нему: «Я любил, почитал и боялся его, ожидал от него всего, полагал, что для него все возможно, непрерывно учился у него и у его переодетого бога Пана в личине божка…».
С колыбели Германа окружали великие тайны и священные статуэтки. Его душа бессознательно впитывала связанные с ними легенды. Иоганнес не ошибся: мощный ствол германского семейства дал новые побеги, а восточный ветер перенес почитаемый цветок Индии на Швабское плоскогорье. «Я — европеец… — напишет Гессе в очерке „Детство волшебника“, — я всю жизнь исправно практиковал западные добродетели — нетерпеливость, вожделение, неуемное любопытство». Он был покорен мистическими силами, которые олицетворял Гундерт: «от него, непостижимого, вела свое начало сокровенная, древняя тайна», которую несла в своей душе и Мария.
Иоганнес противопоставлял себя этому оккультному духу, этой загадочной улыбке Будды. Но что он мог предложить взамен, этот измученный отец? Только крест. Это был для него единственный выход. Мальчик излучал жизнь — здоровый цвет пица, чувственные губы. Чтобы противостоять демонам искушения, нужно было эту силу искоренить любым способом, иплоть до проклятия. Существование христианина — это путь к смерти, иначе говоря, совершение самопогребения с неукоснительной суровостью.
Иоганнес завидовал Гундерту. Он разделял его фанатизм и перил в могущество аскезы, но ему не удавалось ощутить то, что позволяло старому миссионеру «обрести гармонию высших сфер». Его растущую власть он ощущал как тиранию, и в нем клокотала разрушающая злоба. Гундерт, напротив, приближался на его глазах к вершинам самопонимания. Напрасно пастор тал сына за собой — Герман был глух. Отец с грустью заворачивался в длинный редингот, тая от мира свои мучения. Чтобы усомниться в его истинах, ребенку достаточно было лишь взглянуть на деда — и он видел Посвященного.